
|
Такие термины, как “святость [прав]”, напоминают мне о правах животных. Кто дал право собаке? Само слово “право” становится очень опасным. У нас есть права женщин, права детей; и так далее до бесконечности. Потом есть права саламандры и права лягушки. Ситуация дошла до абсурда. Я бы хотел не говорить слов “права” или “святость прав”. Скажем вместо этого, что у людей есть потребности, и мы, как вид общественный, должны стараться удовлетворить эти потребности — такие как потребность в пище, образовании или здоровье, - и в этом направлении мы должны работать. Пытаться каким-то квази-мистическим образом придавать этому больше значения, чем оно того заслуживает, — занятие для Стивена Спилберга и ему подобных. Это какая-то аура небесная — то есть просто чушь собачья. Джеймс Уотсон1 |
Если Джеймс Уотсон, нобелевский лауреат, открыватель структуры ДНК и одна из величайших фигур науки двадцатого века, несколько раздражен внесением слова “права” в принадлежащую ему по праву область генетики и молекулярной биологии, мы вполне можем его простить. Уотсон известен как своим тяжелым характером, так и неосторожными и политически некорректными репликами — в конце концов, он до мозга костей ученый, а не бумагомаратель, специализирующийся на политических или социальных темах. Более того, в своем кинологическом наблюдении относительно современной дискуссии о правах он выразился верно. Его замечание напоминает о словах утилитарного философа Джереми Бентама, который дал знаменитый комментарий к французской Декларации прав человека и гражданина, где говорится, что права естественны и неотъемлемы. Комментарий такой: “Чушь на ходулях”.
Но проблема, к сожалению, этим не исчерпывается, потому что у нас не получится отбросить серьезную дискуссию о правах и говорить только о потребностях и интересах. Права— основа нашего либерально-демократического политического строя, ключ к современной мысли о моральных и этических вопросах. А любая серьезная дискуссия о правах человека должна в конечном счете опираться на какое-то понимание целей или назначения человека, а оно, в свою очередь, почти всегда должно базироваться на какой-то концепции природы человека. И вот тут область Уотсона, биология, становится весьма важной, поскольку науки о жизни в последние годы совершили серьезные открытия о сути природы человека. И как ни хотели бы ученые сохранить китайскую стену между природным “есть”, которое они изучают, и политическим “должно быть”, порождаемым дискуссией о правах, это оказывается всего лишь уходом от вопроса. Чем больше сообщает нам наука о природе человека, тем больше следствий отсюда для прав человека, а значит— для организации институтов и политических законов, защищающих эти права. Среди прочего эти открытия заставляют думать, что современные институты капиталистической либеральной демократии преуспели, поскольку основаны на допущениях о человеческой природе куда более реалистичных, чем любые альтернативные.
Последние лет тридцать индустрия прав росла быстрее, чем сеть Интернет в конце девяностых годов двадцатого века. Помимо упоминавшихся уже прав животных, женщин и детей, есть еще права геев, права людей с дефектами и ограничениями, врожденные права людей, право на жизнь, право на смерть, права обвиняемых и права жертв, а также знаменитое право на периодический отпуск, изложенное во Всеобщей Декларации прав человека. В Билле о Правах США с разумной ясностью перечислен некоторый основной набор прав, которыми могут наслаждаться американские граждане, но в 1971 году Верховный суд в деле “Роу против Уэйда” скроил заново целиком новое право, основанное на открытии судьи Дугласа. Оказывается, право на аборт является “эманацией” “полутени” столь же неясного права на частную жизнь, сформулированного в решении по более раннему делу “Гризволд против штата Коннектикут”. Специалист по конституционному праву Роналд Дворкин в книге “Власть жизни” выдвигает еще более новое утверждение: поскольку совершение аборта есть более серьезное жизненное решение, нежели обращение в ту или иную религию, следовательно, право на аборт изначально защищено Первой Поправкой, гарантирующей свободу вероисповедания2.
Ситуация становится еще более запутанной, когда дискуссия о правах обращается к футурологическим вопросам вроде генной инженерии. Например, специалист по биоэтике Джон Робертсон утверждает, что люди обладают фундаментальным правом на то, что он называет прокреативной свободой, которая.включает как право размножаться, так и право отказываться от размножения (следовательно, и право на аборт). Но право на размножение не ограничено размножением коитальными средствами (то есть посредством секса); оно применимо и к размножению некоитальными средствами, например, к оплодотворению ин витро. Оказывается, что контроль качества защищен некоторым правом, а потому: “генетический скрининг и селективные аборты, как и право выбора партнера либо источника донорских яйцеклеток, спермы или эмбрионов, должны быть защищены законодательно как составные части прокреативной свободы”3. Для многих может оказаться сюрпризом, что у них есть фундаментальное право делать нечто, еще пока не совсем возможное технически, но такова уж на удивление эластичная природа современного разговора о правах.
Роналд Дворкин со своей стороны предлагает нечто, приводящее к праву на генную инженерию людей, причем не столько со стороны родителей, сколько со стороны ученых. Он полагает два принципа “этического индивидуализма”, являющихся для либерального общества базовыми. Первый: каждая индивидуальная жизнь должна быть успешной, а не напрасной, и второй: хотя все жизни равно важны, человек, которому жизнь принадлежит, несет особую ответственность за ее исход. Основываясь на этом, Дворкин утверждает: “Если изображать из себя Бога — значит бороться за улучшение того, что Бог сознательно или природа слепо развивали в течение эпох, то первый принцип этического индивидуализма требует вести эту борьбу, а второй запрещает в отсутствие серьезных признаков опасности хватать за руки врачей и ученых, желающих ее возглавить”4.
Если посмотреть на всю эту фундаментальную путаницу насчет того, что составляет право и откуда оно берется, то возникает мысль: почему бы нам не воспользоваться советом Джеймса Уотсона и не оставить начисто разговоры о правах, просто говоря о “потребностях” и “интересах” человека? Американцы более других народов склонны соединять права и интересы. Превращая каждое индивидуальное желание в право, не сдерживаемое интересами общественности, мы увеличиваем негибкость политических рассуждений. Дебаты в США по поводу порнографии и контроля над стрелковым оружием покажутся нам куда менее манихейскими, если говорить об интересах распространителей порнографии, а не их фундаментальных правах на свободу слова согласно Первой Поправке; или о потребностях владельцев оружия нападения, а не о священной Второй Поправке, дающей право на ношение оружия.
Так почему бы нам вообще не оставить то, что юрист-теоретик Мэри Энн Глендон обозначила как “разговор о правах”? Причина в том, что как в теории, так и на практике язык прав стал в современном мире единственным общим и широко понимаемым, который у нас есть для разговора о благах или целях человека, в частности, о тех коллективных благах и целях, которые составляют предмет политики. Классические философы-политологи, такие как Платон и Аристотель, не употребляли язык прав: они говорили о благе человека и счастье человека, о доблестях и обязанностях, необходимых, чтобы таковых достичь. Современное применение термина “права” несколько беднее, поскольку не включает в себя ряд более высоких целей человека, провидимых этими классиками. Но оно также и более демократично, универсально и легко воспринимаемо. Великие битвы за права, начиная с Американской и Французской революций, являются свидетельством того, что в политике это понятие выступает на передний план. Слово “право” подразумевает моральное суждение (например, “правое дело”), и оно более всего заставляет нас вести дискуссию о природе справедливости и о тех целях, которые мы считаем для человечества существенными.
Уотсон, в сущности, отстаивает утилитарный подход, когда советует просто пытаться удовлетворить потребности и интересы человека, не упоминая прав. Но тут мы упираемся в обычную проблему утилитаризма: вопрос о приоритетах и справедливости, когда потребности и интересы вступают в конфликт. Занимающему важный пост общественному лидеру нужна новая печень из-за пьянства, а я — нищий и смертельно больной пациент в общественной больнице, живу на трубках и аппаратах, но печень у меня здоровая. Любой простой утилитарный расчет, ставящий себе целью добиться максимального удовлетворения человеческих потребностей, скажет, что меня надо в принудительном порядке снять с аппаратов и вынуть печень ради важного лидера и людей, которые от него зависят. И то, что ни одно либеральное общество такого не позволит, отражает точку зрения, что у ни в чем не повинного человека есть право не подвергаться принудительному лишению жизни, как бы ни были важны потребности, удовлетворяемые таким действием.
Давайте рассмотрим другой пример, куда менее приятный для изучения, показывающий пределы утилитаризма. Один из наименее аппетитных процессов в современной пищевой цепи, обычно спрятанный от глаз потребителей, — это процесс переработки. Вся говядина, курятина, свинина, баранина и все, что мы едим, разумеется, забивается на бойнях и превращается в гамбургеры, ростбифы, жареных цыплят и так далее. Но после обработки съедобных для человека частей остаются колоссальные количества биомассы, до миллионов тонн органики ежегодно, которые надо куда-то девать. Поэтому в современной пищевой промышленности эти остатки режутся, перемалываются или варятся до получения пригодных к употреблению продуктов, таких как масло, костная мука и другие, которые снова скармливаются скоту. Иными словами, мы превращаем коров и других животных в каннибалов*.
Почему тогда мы, из тех же утилитарных соображений, не перерабатываем мертвые тела людей и не превращаем их в корм для скота или иные полезные продукты, если допустить, что это происходило бы с согласия покойных? Почему людям не позволить добровольно отдавать свои тела не только для научных исследований, но и для переработки в пищу? Из утилитарных соображений можно бы возразить, что экономическая ценность мертвого тела обычного старика не очень высока, но все же наверняка нашлись бы менее затратные способы избавляться от мертвых тел, чем складировать их для вечного хранения в земле. Несомненно, есть немало бедных семей, которым очень бы пригодились немногие доллары, вырученные за части тела покойного брата или отца, убитого в городской перестрелке.
* Считается, что губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота (она же коровье бешенство) передавалась именно таким образом: белковоподобные прионы, вызывающие эту болезнь в мозгах зараженных животных, не уничтожались в процессе переработки, но сохранялись в корме и попадали в пищу здоровых животных. — Примеч. автора.
Рассуждая подобным образом, какой смысл для солдата рисковать жизнью, чтобы выручить мертвое тело товарища? И зачем родственники тратят свои драгоценные ресурсы, чтобы найти тело пропавшего сына или брата?
Причина того, что мы даже не рассматриваем такие альтернативы, как переработка человеческих трупов; причина того, что одно только упоминание вслух такой возможности вызывает немедленный прилив возмущения, — связана со словами, которые Джеймс Уотсон не любит употреблять: “священность” и “достоинство”. Дело в том, что с мертвыми телами мы связываем огромную неэкономическую ценность, и мы чувствуем, что обращаться с ними надо с уважением, без которого вполне может обойтись коровий труп, — потому что это тела людей. В ответ утилитарист мог бы возразить, что эти чувства отвращения или уважения входят в список приятных и неприятных эмоций, учитываемых в утилитарных расчетах. Но тогда сразу напрашивается вопрос: почему люди как вид вкладывают друг в друга столько особых эмоций — эмоций, которые распространяются даже на мертвые тела родных и любимых?
Права выше интересов, потому что они нагружены куда большим моральным смыслом. Интересы взаимозаменяемы и могут обмениваться один на другой на рынке; права, хотя это редко абсолютно верно, куда менее гибки, потому что им трудно присвоить какую-то экономическую ценность. У меня может быть интерес получить приятный двухнедельный отпуск, но он не может конкурировать с правом другого лица не быть рабом на чьей-то плантации. Право раба на свободу — это не просто сильный интерес с его стороны; незаинтересованная третья сторона могла бы сказать, что состояние рабства несправедливо, поскольку оскорбляет достоинство раба как человека. Свобода раба касается чего-то более основного в его статусе как человека, нежели мой интерес в отпуске — в моем статусе, даже если я отстаиваю свой интерес активнее, чем раб — свой.
В каждой политической системе одни права чтят больше, другие меньше, и это отражает моральный базис этих систем. Соединенные Штаты были основаны на принципах, записанных в Декларации независимости, а именно, что “все люди созданы равными, они наделены Создателем определенными неотчуждаемыми правами”. Эти принципы, как объяснил Авраам Линкольн, нарушались институтом рабства, что привело к кровопролитной гражданской войне. Она вымостила дорогу к манифесту об освобождении рабов и принятию Четырнадцатой Поправки, устранившей это глубочайшее несоответствие и заложившей основы последующей американской демократии.
Так если права имеют приоритет над целями и благами человека и некоторые из них стоят выше других, поскольку являются основой справедливости, то откуда они происходят? Причина того, что совокупность прав все время стараются расширить, состоит в том, что каждый хочет повысить относительный приоритет одних интересов по сравнению с другими. Как же нам в какофонии трепа о правах решить, что подлинно является правом, а что нет?
Права в принципе выводятся из трех возможных источников: божественное право, естественное право и то, что можно назвать современным позитивистским правом, содержащимся в законе и общественных обычаях. Иными словами, права могут исходить от Бога, от Природы и от самого Человека.
Права, выведенные из религиозных откровений, ныне не признаются как основа политических прав ни в одной из либеральных демократий. Джон Локк начинает свой “Второй трактат о государственном правлении” с нападения на Роберта Филмера и доктрину божественного права; самая суть современного либерализма — устранить религию как явную основу политического строя. К этому привело наблюдение, что государства, основанные на религии, постоянно находятся в состоянии войны друг с другом, поскольку у них нет достаточного согласия об основных религиозных принципах. В основу описания Гоббсом естественного состояния как войны “всех против всех” легли сектантские свары его времени. Конечно, ничего из этого не мешает частным лицам в либеральном обществе верить, что человек создан по образу и подобию Божию, а потому основные права человека исходят от Бога. Такие взгляды вызывают проблемы, только если они заявляются как основа политических прав, например, в споре об абортах. Здесь дело как раз упирается в проблему, указанную Локком: крайне трудно достичь политического консенсуса по вопросам, в которых замешана религия.
Второй возможный источник прав— это природа, точнее, природа человека. Несмотря на упоминание Создателя в Декларации, Джефферсон считал, что права должны иметь свои основы в теории человеческой природы. Политический принцип равенства должен был выводиться из наблюдения над природой человека. Рабство в принципе противоречило природе, и потому было несправедливо.
Предположение, что права человека могут быть основаны на природе человека, подвергается энергичным нападкам еще с восемнадцатого века. Эти нападки проходят под видом критики “натуралистического заблуждения” — традиции, тянущейся от Дэвида Юма и до аналитиков-философов двадцатого века, таких как Дж. И. Мур, P.M. Хейр и другие5. Учение о “натуралистическом заблуждении”, особенно сильное в англосаксонском мире, утверждает, что природа не может дать философски оправданного базиса для прав, морали или этики6.
Поскольку философская школа, доминирующая в современных университетских кругах, считает, что любая попытка основывать права на природе давно уже опровергнута, понятно, что специалисты в естественных науках охотно используют учение о натуралистическом заблуждении как щит для прикрытия своей работы от неприятных политических последствий вроде тех, о которых говорилось во второй главе. Так как большинство ученых либо аполитичны, либо являются благомысленными либералами, им легко говорить о натуралистическом заблуждении и утверждать, как недавно Пауль Эрлих в своей книге “Природа человека”7, что человеческая природа не дает нам никакого намека на то, какими должны быть человеческие ценности.
Моя точка зрения состоит в том, что привычное понимание натуралистического заблуждения само по себе есть заблуждение, и потому философии отчаянно необходимо вернуться к докантианской традиции, которая корни прав и морали видит в природе. Но раньше, чем у меня будет возможность изложить это утверждение более полно и объяснить, почему отказ от концепции естественных прав есть заблуждение, нам надо будет рассмотреть третий источник прав, который можно обозначить как позитивистский. Именно слабости третьего, позитивистского подхода к правам требуют усилий по возрождению концепции природных прав.
Самый простой способ определить этот источник прав — оглядеться вокруг и посмотреть, что само общество объявляет правом посредством своих основных законов и деклараций. Уильям Ф. Шульц, исполнительный директор “Международной амнистии”, утверждает, что современные адвокаты прав человека давно оставили мысль, будто права человека могут или должны базироваться на природе или на законе природы8. Вместо этого, как он заявляет, “термин “права человека” означает именно “права людей”, то есть нечто, чем люди могут обладать или чего требовать, но не обязательно исходящее из природы требующего”. Иными словами, права человека— это все, что человек таковыми заявляет.
Если выбрать это утверждение в качестве политической стратегии для согласования документов вроде Всеобщей Декларации прав человека, то нет сомнения, что Шульц прав, говоря, что права — это все, что можно уговорить людей считать правами, и что никогда нельзя будет добиться согласия по поводу набора естественных прав. Могут быть процедурные уточнения, гарантирующие, что положительное право будет отражать волю общества, которое его декларирует, — например, правило насчет того, что вопросы прав человека требуют ратификации квалифицированным большинством (как в случае Конституции США). Первая Поправка декларирует права на свободу слова и вероисповедания, и диктуются они природой или нет, но они ратифицированы в конституционном процессе. Однако такой подход означает, что права, в сущности, являются процедурным вопросом: если можно квалифицированным большинством (или как угодно) согласиться, что каждый имеет право разгуливать в белье в общественном месте, это станет фундаментальным правом человека вместе со свободой союзов и свободой слова.
Так что же плохого в чисто позитивистском подходе к правам? Проблема, как знают из собственной практики все защитники прав человека, не в теории, а в том, что нет положительных прав, которые были бы еще и всеобщими. Когда западные защитники прав человека критикуют китайское правительство за аресты политических диссидентов, китайское правительство отвечает, что у них в обществе права коллективные и социальные перевешивают права личности. Упор западных организаций на индивидуальные права не есть выражение всеобщих чаяний, но отражает западные (или христианские) культурные предпочтения самих этих групп правозащитников. Западные правозащитники могут на это ответить, что китайское правительство не следует правильной процедуре, поскольку не консультируется демократическим образом с собственным народом. Но нет же универсальных стандартов политического поведения, и потому кто может сказать, какие процедуры правильны? И что ответит защитник прав с позитивистским подходом, как ветеран правозащиты Уильям Шульц, культурно отличному от нас обществу, где с помощью совершенно правильных процедур практикуются такие страшные вещи, как самосожжение вдов, или рабство, или обрезание женщин? Ответ таков, что никакой ответ невозможен, поскольку было с самого начала декларировано, что нет всеобщего стандарта определения хорошего и дурного, помимо того, что сама культура объявляет правом.
Проблема культурного релятивизма заставляет нас снова подумать, не поторопились ли мы, отбрасывая мысль, что права человека основаны на природе человека: существование единой природы человека, общей для всех народов мира, дает — хотя бы теоретически — общую основу для построения универсальных прав человека. Однако вера в натуралистическое заблуждение так глубоко укоренилась в современной западной мысли, что возрождение заявки о естественных правах становится серьезной задачей.
Идея, что права не могут иметь корней в природе, держится на двух отдельных, хотя зачастую взаимосвязанных аргументах. Первый приписывается Дэвиду Юму, одному из отцов британского эмпиризма, который, как широко принято считать, доказал раз и навсегда, что невозможно вывести “должно быть” из “есть”. В знаменитом пассаже из своего “Трактата о природе человека” Юм замечает:
В каждой системе морали, которую мне приходилось видеть, я всегда замечал, что автор какое-то время идет обычным путем рассуждений и устанавливает существование какого-нибудь Бога или делает замечания о делах людских, и вдруг я с удивлением обнаруживаю, что вместо обычной связки в предложении — “есть” и “не есть”, нет ни одного предложения, где связкой4 не служило бы словосочетание “должно быть” или “не должно быть”. Это изменение незаметно, но тем не менее оно неизмеримо важно. Поскольку эти “должно быть” и “не должно быть” выражают какое-то новое отношение или утверждение, оно должно быть наблюдено и объяснено, и в то же время должно быть указано обоснование для того, что кажется полностью непостижимым: как это новое отношение может быть выведено из других, которые от него в корне отличаются.9
Юму обычно приписывается заслуга, что он заявил, будто утверждение о моральном обязательстве не может быть выведено из эмпирического наблюдения над природой или естественным миром. Когда ученые-естественники утверждают, что их работа не имеет политических импликаций, они обычно имеют в виду юмовскую дихотомию “есть — должно быть”: то, что люди генетически склонны вести себя некоторым видоспецифичным образом, не значит, что они должны вести себя именно так. Моральные обязательства исходят из иной, темной и плохо определенной области, отличной от мира природы.
Второе направление “натуралистического заблуждения” могло бы сказать, что даже если мы сможем вывести “должно быть” из “есть”, это самое “есть” зачастую мерзко, аморально и уж, во всяком случае, внеморально. Антрополог Робин Фоке заявляет, что биологи за последние годы очень многое узнали о человеческой природе такого, на что смотреть не слишком приятно, и что очень вряд ли могло бы послужить основой для политических прав10. Например, эволюционная биология дала нам теорию родственного отбора, или инклюзивной приспособленности, которая утверждает, что люди стремятся довести до максимума свою репродуктивную приспособленность, покровительствуя кровным родственникам прямо пропорционально количеству общих генов. Отсюда, по Фоксу, следует такое заключение:
Можно весьма убедительно сказать, используя теорию родственного отбора, что право на месть является природным и присущим человеку. Если кто-то убьет моего внука или племянника, он отнимет у меня часть моей инклюзивной приспособленности, то есть уменьшит мощность моего генофонда. Можно утверждать, что я в возмещение ущерба имею право причинить ему подобный же урон... Подобная система мести менее эффективна, чем система возмещения, когда бы я обрюхатил одну из женщин виновного, и он был бы вынужден воспитывать особь, несущую в себе мои гены”.11
Чтобы заново выстроить аргументы в пользу естественного права, нам нужно рассмотреть каждое из этих утверждений по очереди, начав с различения “есть” — “должно быть”. Более сорока дет назад фидософ Аласдер Мак-Интайр указал, что сам Юм не верил и не следовал приписываемому ему правилу о том, что невозможно вывести “должно быть” из “есть”12. Максимум того, что сказано в этом знаменитом отрывке из “Трактата”, так это то, что невозможно вывести моральные правила из эмпирического факта логическим априорным путем. Но, как практически любой серьезный философ западной традиции со времен Платона и Аристотеля13, Юм считал, что “должно быть” и “есть” соединены мостом таких понятий, как “желание, потребность, удовольствие, счастье, здоровье” — целями и задачами, которые люди сами себе ставят. Мак-Интайр приводит следующий пример, как одно выводится из другого; “Если я пырну Смита ножом, меня посадят в тюрьму. В тюрьму я не хочу, поэтому я не должен (и лучше не буду) пырять его ножом”.
Разумеется, существует огромное разнообразие человеческих хотений, потребностей и желаний, которые могут породить такое же разнообразие всяких “должно быть”. Так почему бы нам все-таки не вернуться к утилитаризму, который фактически создает моральные “должно быть” в поиске удовлетворения потребностей человека? Проблема утилитаризма в различных его формах лежит не в его методе соединения “есть” и “должно быть”: многие утилитаристы основывают свои этические принципы на явно высказанных теориях природы человека.
Проблема состоит в радикальном редукционизме утилитаризма — то есть полностью упрощенной точке зрения на природу человека, используемой в утилитаризме14. Джереми Бентам старался свести все побудительные мотивы человека к преследованию удовольствия и уходу от страдания15; более поздние утилитаристы, такие как Б.Ф. Скиннер и бихэвиористы, имели в виду аналогичную концепцию, когда говорили о положительном и отрицательном подкреплении. Современные экономисты-неоклассики начинают с модели природы человека, утверждающей, что все люди рационально стремятся увеличить полезность до максимума. Экономисты открыто дезавуируют любые попытки различать отдельные виды полезности или определять их порядок приоритетов; на самом деле они часто сводят все виды человеческой деятельности — от биржевых спекуляций банкиров с Уолл-стрит до служения матери Терезы — к преследованию совершенно одинаковых единиц потребительских предпочтений, называемых видами пользы*. В редукционистской стратегии, лежащей в основе утилитаристской этики, есть изящная простота, и потому она так привлекает многих. Она обещает, что этика может быть преобразована в нечто вроде науки с четкими правилами выбора оптимального решения. Проблема в том, что человеческая природа слишком сложна, чтобы ее свести к простым категориям “страдания” и “удовольствия”. Некоторые страдания и удовольствия глубже, сильнее и неистребимее других. Удовольствие, получаемое от чтения дешевого детектива, — совсем не то, что удовольствие от чтения “Войны и мира” или “Мадам Бовари” — для квалифицированного читателя, к которому адресуются эти романы. Некоторые удовольствия указывают нам разные направления: наркоман может жаждать выздоровления и жизни, свободной от наркотиков, и в то же время желать очередной дозы.
* В случае матери Терезы полезность принимает форму некоего психологического удовлетворения. — Примеч. автора.
Более отчетливо способ, которым люди соединяют “есть” и “должно быть”, можно увидеть, признав, что человеческие ценности сильно переплетены, как указывает эмпирический факт, с эмоциями и ощущениями. “Должно быть”, выводимые из этого, не менее сложны, чем эмоциональная система человека. То есть вряд ли найдется суждение о “добре” и “зле”, произнесенное человеком, которое не сопровождалось бы сильными эмоциями — желания, стремления, отвращения, возмущения, гнева, вины или радости. Некоторые из этих эмоций включают в себя простые страдания и удовольствия утилитаристов, но другие отражают более сложные социальные чувства, например, желание статуса или признания, гордости от способности быть праведным или стыда за нарушение общественного правила или запрета. Увидев изуродованное тело политзаключенного диктаторского режима, мы произносим слова “плохо” или “чудовищно”, потому что нами движет сложная буря эмоций: ужас при виде расчлененного тела, сочувствие страданиям жертвы и его родственников и друзей, гнев из-за несправедливого убийства. Мы можем умерить эти суждения рациональными соображениями относительно смягчающих обстоятельств: быть может, убитый входил в вооруженную террористическую группу, и контртеррористические действия правительства требовали репрессивных мер, при которых страдают и невинные жертвы. Но сам процесс создания ценностей не рационален, поскольку его источником являются “есть” различных эмоций.
Все эмоции по определению выражаются субъективно; и как же нам перейти к более объективной теории ценностей, если эмоции вступают друг с другом в конфликт? Именно в этот момент вводятся в картину традиционные философские рассуждения о человеческой природе. Почти любой философ до Канта имел явную или неявную теорию природы человека, определяющей некоторые желания, потребности, эмоции и ощущения как более фундаментальные для нашей человеческой сущности. Я, например, хочу получить свой двухнедельный отпуск, но ваше желание вырваться из рабства основано на более универсальной и более глубоко ощущаемой жажде свободы, и потому оно выше моего. Утверждение Гоббса об основном праве на жизнь (которое предшествовало освящению права на жизнь в Декларации независимости) основано на явно выраженной теории человеческой природы, которая заявляет, что страх насильственной смерти есть сильнейшая из страстей человека и потому порождает куда более фундаментальное страдание, чем, скажем, притязание на религиозную правоту. Моральное бесчестие, которое связано с убийством, в большой мере возникает из того факта, что страх смерти есть часть человеческой природы и по существу одинаков во всех человеческих сообществах.
Одно из самых ранних философских рассуждений о человеческой природе излагает Сократ в “Республике” Платона. Он утверждает, что есть три части души: желающая часть (эрос), одухотворенная, или гордая часть (тимос) и рациональная часть (нус). Эти три части не сводимы друг к другу и во многих отношениях не соизмеримы: мой эрос, или желание, уговаривает меня покинуть строй и бежать с поля битвы к семье, но тимос, или гордость, заставляет меня стоять твердо из страха перед стыдом. Разные концепции справедливости адресуются к разным частям души (например, демократия адресуется к желающей части, а аристократия — к гордости), а наилучший город удовлетворяет все три. Из-за этой трехчастной сложности даже самый справедливый город требует, чтобы некоторые стороны души не могли быть удовлетворены полностью (вспомним знаменитое обобществление женщин и детей, упраздняющее семью), и ни одна реальная политическая система не может надеяться на большее, чем лишь приблизиться к справедливости. И все же справедливость остается осмысленным понятием, осмысленным настолько, насколько верна та трехчленная психология, из которой она выведена. (Многие современные комментаторы фыркают на “упрощенческую” психологию Платона, разделяющего душу на три части, забывая, что многие школы двадцатого века, в том числе фрейдизм, утилитаризм и бихэвиоризм, идут на куда более сильные упрощения, сводя душу лишь к желающей части; разум у них играет лишь роль орудия, а тимосу вообще нет места в этой картине.)
Радикальный перелом в западной традиции исходит не от Юма, но от Руссо и особенно от Канта16. Руссо, как Гоббс и Локк, стремился охарактеризовать человека в естественном состоянии, но еще он утверждал во “Втором дискурсе”, что люди “способны к совершенствованию”, то есть обладают способностью со временем менять свою природу. Способность к совершенствованию оказалась семенем, из которого проросла идея Канта о ноуменальном царстве, свободном от природной причинности, и была основой категорического императива, который отделил мораль в целом от какой бы то ни было концепции природы. Кант утверждал, что мы должны принять существование возможности истинного нравственного выбора и свободы воли. Моральное действие по определению не может быть продуктом естественного желания или инстинкта, но должно действовать против естественного желания на основе того, что один только разум объявляет правильным. Согласно знаменитому утверждению Канта в его “Основах метафизики морали”: “Ничего в мире — и даже за его пределами — не может быть постигнуто такого, что безоговорочно можно назвать добром, кроме доброй воли”17. Все остальные свойства и цели, к которым стремятся люди, от разума и храбрости до богатства и власти, являются добром только относительно добра той воли, которая ими владеет, и лишь добрая воля желанна сама по себе. Кант полагал, что люди как существа, действующие под влиянием морали, являются ноуменами, или вещами в себе, и, следовательно, всегда должны рассматриваться как цели, а не как средства.
Многие наблюдатели18 указывали на сходство между этикой Канта и точкой зрения на человеческую природу, принятую в протестантской религии, которая считает, что природа эта неисправимо грешна и что нравственное поведение требует подняться над природными желаниями или подавить их in tоtо, Аристотель и философы средневековой томистской традиции утверждали, что добродетель строится на том, чем нас одарила природа, и расширяет эти дары, и что нет необходимости в конфликте между тем, что естественно приятно, и тем, что правильно. В кантовской этике мы видим зарождение той точки зрения, что добро означает волю, преодолевающую природу.
После Канта западная философия во многом повернула к так называемым деонтологическим теориям добра — то есть теориям, которые стараются вывести этическую систему, независимую от каких-либо существенных утверждений о человеческой природе или человеческих целях. Сам Кант говорил, что его моральные нормы были бы применимы к любым рационально действующим субъектам, даже если это не люди; на самом деле общество может состоять из “рациональных дьяволов”. Следуя Канту, дальнейшие деонтологические теории начинают с допущения, что не может быть теории относительно человеческих целей no-существу, выведенной из природы человека или из других источников.
Например, согласно Джону Ролзу, в либеральном государстве “системы целей не упорядочены по ценности”19; индивидуальные “жизненные планы” могут различаться большей или меньшей рациональностью, но не природой целей и задач, которые они ставят20. Эта точка зрения весьма глубоко проникла в современную теорию конституционного права США. Постролзовские теоретики права, такие как Роналд Дворкин и Брюс Аккерман, пытаются определить нормы либерального общества, при этом тщательно избегая любых упоминаний о приоритетах человеческих целей, или, более современным языком, разных образов жизни21. Дворкин утверждает, что либеральное государство “должно быть нейтральным в... вопросе о том, какая жизнь считается правильной... политические решения должны, насколько это возможно, быть независимыми от каких бы то ни было концепций правильности жизни или того, что придает жизни ценность”, Аккерман, со своей стороны, заявляет, что никакой социальный порядок не может быть оправдан, “если он требует от держателя власти утверждения, что: а) его понятие правильной жизни лучше, чем у любого из его сограждан, или б) что, независимо от его концепции правильной жизни сам он внутренне выше одного или более своих сограждан”22.
Я считаю, что этот широкий отход от теорий добра, основанных на природе человека, порочен по многим причинам. Самая, быть может, явная слабость деонтологических теорий добра состоит в том, что почти все философы, которые пытались построить такую схему, кончали тем, что встраивали в свои теории различные предположения о природе человека. Единственное различие — они это делали скрыто и бесчестно, а не явно, как было в прежней традиции от Платона до Юма. Уильям Галстон указывает на утверждение самого Канта в “Метафизических элементах справедливости” о том, что общество не может наложить на себя церковную конституцию, в которой некоторые религиозные догмы считаются неизменными, поскольку такая организация “вступила бы в конфликт с назначенной человечеству целью”. А какова же цель у людей? Развиваться как рациональные существа, свободные от обскурантистских предрассудков. Это утверждение Канта сразу же делает несколько сильных предположений о человеческой природе: что люди — рациональные создания, что они выигрывают от использования своего разума и наслаждаются им и что они эту рациональность могут развивать со временем. Последнее подразумевает необходимость в образовании, и государство не может оставаться нейтральным в вопросе, выберут его граждане догматическое невежество — или образованность.
То же самое относится и к современным кантианцам вроде Джона Ролза, чья теория справедливости явным образом уклоняется от любой дискуссии о природе человека и стремится установить набор минимальных нравственных норм, основанных на так называемой исходной позиции, которые могут быть применены к любой группе рациональных субъектов. Это значит, что нам надо втемную выбрать правила справедливого распределения из-за “завесы незнания”, когда мы не знаем своего фактического положения в обществе. Как указывали критики Ролза, сама “исходная позиция” и политические следствия, которые Ролз из нее выводит, содержат многочисленные утверждения о природе человека, в частности, предположение, что люди не любят риска23. Он полагает, что люди выберут строго эгалитарное распределение ресурсов из страха оказаться внизу социальной лестницы. Но многие могут предпочесть более иерархическое общество, идя на риск получить низкий статус ради шанса получить высокий. Более того, Ролз в “Теории справедливости” довольно много времени посвящает выработке условий, при которых каждый человек может строить планы оптимальным образом, а это уж как минимум предполагает, что человек есть рациональное животное, имеющее цель и умеющее формулировать долговременные задачи. И часто Ролз апеллирует к тому, что на самом деле есть наблюдение над человеческой природой, как в следующем примере:
Основная идея — это идея взаимности, то есть тенденции отвечать тем же. Сейчас эта тенденция — глубокий психологический факт. Без нее наша природа была бы совсем иной, а плодотворное общественное сотрудничество — очень хрупким, если не невозможным... Существа с иной психологией либо никогда не существовали, либо быстро исчезали в ходе эволюции.24
Утверждение, что взаимность и генетически запрограммирована в психологии человека, и необходима для выживания людей как вида, должна иметь значительные последствия для морального статуса взаимности как способа этического поведения.
Роналд Дворкин точно так же говорит, что “объективно важно, чтобы любая человеческая жизнь, начавшись, пришла к успеху, а не к провалу — чтобы потенциал этой жизни был реализован, а не растрачен”25. Одна эта фраза кишит предположениями о природе человека: что каждая человеческая жизнь имеет выраженный природный потенциал; что этот потенциал есть нечто, развивающееся со временем; что этот потенциал, чем бы он ни был, для своего взращивания нуждается в некоторых усилиях и предвидении; что есть предпочтения и возможности относительно этого потенциала, которые человек может иметь или выбирать и которые не слишком желательны с точки зрения как индивидуума, так и большего сообщества. Истинно деонтологическая теория предположила бы, что если большое число личностей в обществе проводит первую половину жизни, зарабатывая деньги, чтобы вторую провести в героиновом ступоре, при этом не нарушая никаких процедурных правил, то и хорошо: нет же теории человеческой природы по существу или теории добра по существу, которые дали бы нам возможность сделать различие между человеком, активно стремящимся к самосовершенствованию путем образования и участия в общественной жизни, и наркоманом. Очевидно, ни Ролз, ни Дворкин в это не верят, а значит, и они не могут избежать определенных суждений о том, что является естественно лучшим для людей.
Нет лучшей иллюстрации, каким образом — скрыто или через заднюю дверь — проникает теоретизирование насчет человеческой природы, чем в словах специалиста по биоэтике Джона Робертсона, постулировавшего, как отмечалось выше, право на “прокреативную свободу”, которое, как утверждается, влечет за собой право человека на генетическую модификацию своего отпрыска. Откуда же берется право прокреативной свободы, если его никак не найти в Билле о Правах? Как ни удивительно, Робертсон не основывает его на положительном законе, как, например, права на частную жизнь и на аборт, установленные Верховным судом решениями по делам “Гризволд против штата Коннектикут” и “Роу против Уэйда”, Он просто изобретает это право на следующих основаниях:
Прокреативная свобода должна быть презумптивно первой, если возникает конфликт по вопросу пользования ею, поскольку контроль над тем, размножается человек или нет, является центральным для его осознания себя как личности, для его достоинства и для смысла его жизни, Например, лишение возможности избегать размножения затрагивает самоопределение человека в самом глубинном смысле. На тела женщин такое ограничение действует непосредственно и по существу. Оно также определяющим образом воздействует на психологическую и социальную самоидентификацию человека, как и на его социальные и моральные обязанности. Возникающее бремя наиболее тягостно для женщин, но и на мужчин оно тоже ложится тяжелых грузом.
С другой стороны, лишение возможности размножаться не дает человеку испытать то, что является главным для ощущения собственной личности и для смысла жизни. Хотя желание размножаться в какой-то степени создается обществом, на самом глубинном уровне передача своих генов — побудительный мотив животного или вида, тесно связанный с половым влечением. Это желание связывает нас с природой и будущими поколениями; размножение дает утешение перед лицом смерти.26
Такие фразы, как “главное для ощущения себя как личности” и “самоопределение в самом глубинном смысле”, а также упоминания тел, на которые “это ограничение действует непосредственно и по существу”, — все это предполагает приоритеты среди широкого спектра человеческих желаний и стремлений. Получается, что стремления, связанные с размножением, составляют основные права, поскольку оно почему-то важнее всех других целей, если рассматривать их важность для среднего человека. Не все люди испытывают столь сильные чувства по поводу решений, связанных с размножением — наверняка есть люди, которые не хотят размножаться или для которых завести ребенка — не такое уж важное дело, Но типичному человеку это не все равно. Разумеется, Робертсон открыто апеллирует к природе, говоря, что “передача своих генов — побудительный мотив животного или вида”. Возникает искушение перефразировать Юма: удивительно видеть у деонтологических авторов этот почти неощутимый переход от “должно быть” или “не должно быть” к “есть” или “не есть”, поскольку они не лучше всякого другого могут уйти от обоснований того, что “должно быть”, тем, что “есть” для нашего вида.
У современных деонтологических теорий есть и другие слабости. В отсутствие теории природы человека по существу или любых других средств обоснования человеческих стремлений деонтологические теории возводят индивидуальную моральную автономию в ранг высшего блага для человека. Они предлагают индивидуумам следующую сделку: ни философы, ни общество в виде либерального государства не будут тебе говорить, как прожить жизнь; они предоставят это решать тебе. Они лишь установят некоторые процедурные правила, гарантирующие, что выбранный тобой жизненный план не станет мешать планам твоих сограждан. Этим объясняется огромная популярность такого подхода: никто не любит, когда его жизненный план подвергается критике или очернению. Право на выбор, а не внутренне содержательные планы на жизнь — вот что последовательно защищают деонтологические теории. Как это сформулировано в мнении большинства Верховного суда по делу “Кейси против искусственного ограничения состава семьи”, “сердцем свободы является право каждого определять собственные концепции существования, смысла, вселенной, а также тайны человеческой жизни”27.
Многое в современной культуре поддерживает точку зрения, что моральная самостоятельность есть самое важное право человека. Зародыш этой идеи содержится в точке зрения Канта: люди — суть ноумены, или вещи в себе, обладающие моральной свободой. К Ницше восходит взгляд, что человек — “животное, способное краснеть”, то есть создатель ценностей, своею волею вводящий их в существование, когда произносит слова “добро” или “зло” и применяет эти слова к окружающему миру. Отсюда уже недалеко до рассуждений о ценностях современного демократического общества, где я полностью свободен создавать собственные ценности, невзирая на то, разделяет ли их кто-нибудь еще или нет28.
Но если свобода выбора жизненных планов есть несомненное благо, все равно существует достаточно причин поставить вопрос, действительно ли моральная свобода — в том виде, в котором она понимается сейчас — так хороша для большинства людей, не говоря уже о том, является ли она самым важным благом. Та моральная самостоятельность, о которой традиционно говорится, что она дает нам достоинство, есть свобода принимать или отвергать моральные нормы, исходящие из источников выше нас, а не свобода эти нормы создавать. Для Канта моральная самостоятельность значила не следование своим наклонностям, куда бы они ни вели, а повиновение априорным законам практического разума, которые часто вынуждают нас действовать ради целей противоположных тем, которые ставят перед нами наши желания и склонности. Современное же понимание моральной самостоятельности редко дает способ различить подлинно нравственный выбор и выбор, определяемый личными склонностями, предпочтениями, желаниями и удовольствиями.
Даже если мы поверим на слово, будто индивидуальный выбор и составляет моральную самостоятельность, то все равно не самоочевидно, что неограниченные возможности выбора стоят выше блага других людей. Некоторых могут привлечь жизненные планы, отвергающие авторитет и традиции и ломающие общепринятые социальные нормы. Есть такие жизненные планы, которые могут быть выполнены лишь в союзе с другими людьми, и это требует ограничений индивидуальной автономии ради социального сотрудничества или общественной солидарности. Вполне вероятный план может требовать жизни в традиционно-религиозной общине (скажем, у меннонитов или ортодоксальных иудеев), которая стремится ограничить личный выбор своих членов. Другой план может включать в себя жизнь в тесно связанной этнической общине, или жизнь, полную республиканской доблести, где любой индивидуализм уступает место казарме. Этика, основанная на деонтологических принципах, на самом деле не безразлична по отношению к этим планам; она более благосклонна к индивидуалистическим планам, доминирующим в либеральном обществе, чем к планам общественным, которые могут быть в человеческом смысле столь же удовлетворительными.
Люди созданы эволюцией в виде общественных животных, которые, как правило, стремятся погрузить себя в море общественных связей*.
* Более подробные аргументы в пользу этой точки зрения приводятся в следующей главе. — Примеч. автора.
Ценности не строятся произвольно, но служат важной цели: сделать возможными коллективные действия. Люди также находят большое удовлетворение в том, что эти ценности и нормы общие. Солипсистские ценности противоречат собственной цели и ведут к весьма дисфункциональному обществу, где люди не могут работать совместно ради общей цели.
А как же вторая ветвь утверждения о натуралистическом заблуждении, которая говорит, что даже если права и выводятся из природы человека, то эта природа агрессивна, склонна к насилию, жестока — или безразлична? Человеческая природа уж как минимум противоречива; она влечет к соперничеству и сотрудничеству, к индивидуализму и общению. Как может какое-либо конкретное “природное” поведение быть основой природных прав?
Ответ, как я считаю, тот, что хотя нельзя просто взять и перенести природу человека в права человека, переход от первой ко вторым совершается посредством рационального обсуждения целей человека, то есть посредством философии. Это обсуждение не ведет к априорным или математически доказуемым истинам; оно даже может не привести участников к согласию по существу. Но оно позволяет нам начать устанавливать иерархию прав, и, что важно, дает нам возможность исключить некоторые решения проблемы прав, имевшие политическую силу в процессе истории человечества.
Возьмем, например, наклонность человека к насилию и агрессии. Мало кто станет отрицать, что они как-то коренятся в природе человека; вряд ли существует хоть одно общество, свободное от убийства или вооруженного насилия в какой-либо форме. Но прежде всего мы замечаем, что беспорядочное насилие против других членов общества запрещено в любой известной культуре: хотя убийство универсально, но универсальны и законы и социальные нормы, цель которых — запретить убийство. То же самое верно и для “родственников” человека — приматов: группа шимпанзе иногда подвергается агрессии молодого самца, который, как убийцы из Колумбийской школы, одинок, оттеснен на периферию или стремится к самоутверждению29. Но старшие члены стаи всегда принимают меры, чтобы взять под контроль и нейтрализовать подобного индивида, поскольку общественный порядок не может терпеть такого насилия.
Насилие среди приматов, в том числе среди людей, легитимизировано на более высоком социальном уровне — то есть со стороны членов группы, конкурирующих с особями вне группы. Воинам оказываются уважение и почет, которых лишены убийцы-школьники. Война Гоббса “всех против всех” на самом деле есть война каждой группы против каждой другой группы. Внутригрупповой общественный порядок поддерживается необходимостью конкурировать с внешними группами, как в процессе эволюции (есть много свидетельств, что когнитивные способности человека выковались этими групповыми конкурентными потребностями30), так и в процессе истории человечества31. Наблюдается печальная преемственность от дочеловеческих приматов через общества охотников и собирателей к современным участникам этнического и сектантского насилия: это — в основном — объединенные самцами группы, конкурирующие друг с другом за господство32.
Этот факт можно принять за аргумент в пользу теории натуралистического заблуждения и считать, что он кладет конец обсуждению, если бы не тот факт, что в человеческой натуре есть еще много чего помимо склонности к насилию, свойственной группам самцов. В ней есть и желание того, что Адам Смит назвал выгодой: накопления собственности и благ, полезных для жизни, а также рассудок, способность предвидеть и рационально распределять приоритеты на долгий срок. Если две группы людей конфликтуют друг с другом, у них есть выбор: ввязаться в жестокую игру с нулевой суммой — борьбу за господство — или установить мирные, с положительной суммой отношения торговли и обмена. Со временем логика второго выбора (то, что Роберт Райт обозначил как “nonzero-sumness”33) раздвигала границы анутригрупповых отношений на все более расширяющиеся общины взаимного доверия: от тесных групп родственников до племен и родов, государств, наций, широких этнолингвистических объединений и того, что Сэмюель Хантингтон назвал культурами — объединений с общими ценностями, включающих в себя многие национальные государства и сотни миллионов, если не миллиарды людей.
На границах этих расширяющихся групп остается достаточное количество насилия, все более смертоносного в связи с развивающимися военными технологиями. Но в человеческой истории есть логика, говорящая, что история в конечном счете движется приоритетами, существующими среди естественных человеческих желаний, стремлений и склонностей. Насилие среди людей последние 100 000 лет становилось все более контролируемым и оттеснялось на внешние границы растущих групп. Глобализация — мировой порядок, в котором самые большие группы людей уже не конкурируют друг с другом за господство с помощью насилия, но мирно торгуют — может рассматриваться как логическая кульминация долгого ряда решений в пользу конкуренции с положительной суммой.
Другими словами, насилие может быть естественным для людей, но так же естественна склонность его контролировать и давать ему управляемый выход. Эти противоположные природные тенденции имеют неодинаковые приоритеты: люди, рассуждающие о своем положении, могут додуматься до необходимости создавать нормы и институты, сдерживающие насилие ради других естественных стремлений, таких как тяга к собственности и выгоде, которые более фундаментальны.
Человеческая природа также дает нам возможность судить, какие политические режимы окажутся неэффективными. Например, правильно понимая современную эволюционную теорию родственного отбора или инклюзивной приспособленности, можно было бы предсказать банкротство и окончательных крах коммунизма из-за отказа последнего в уважении естественных склонностей к приоритету семьи и частной собственности.
Карл Маркс утверждал, что человек — существо видовое: то есть у человека есть альтруистические чувства ко всему виду в целом. Политическую практику и институты реальных коммунистических стран — например, отмену частной собственности, подчинение семьи партии-государству и приверженность всемирной солидарности трудящихся — можно было полностью предсказать на основании этого мнения.
Было время, когда теоретики эволюции, такие как B.C. Винн-Эдвардс, постулировали существование альтруизма на уровне вида, но современная теория родственного отбора возражает против существования сильного давления группового отбора34. Она постулирует, что альтруизм вырастает в первую очередь из потребности индивидов передать свои гены следующим поколениям. Поэтому люди в первую очередь будут альтруистичны по отношению к членам своей семьи и другим родственникам; политическая система, которая заставляет их проводить субботы в отрыве от семьи, работая ради “героического народа Вьетнама”, встретит очень глубокое сопротивление.
Предыдущий пример показывает, как переплетаются политика и человеческая природа: родственный отбор указывает, что политическая система, которая уважает право людей следовать собственным интересам и заботиться о родных и друзьях больше, чем о ком-то на той стороне земного шара, будет более стабильной, работоспособной и удовлетворительной для человека, чем противоположный вариант. Человеческая природа не диктует единый и точный список прав; она и сложна, и гибка во взаимодействии с различными природными и технологическими средами. Но она не бесконечно пластична, и наша общая человеческая суть позволяет нам определять некоторые виды политического строя, например тиранию, как несправедливые. Права человека, которые говорят о более глубоких и всеобщих человеческих побуждениях, амбициях и видах поведения, будут более прочной основой для политического права, чем те, которые этого не делают. Этим объясняется, почему в начале двадцать первого века в мире так много капиталистических либеральных демократий, но мало социалистических диктатур.
Таким образом, невозможно говорить о правах человека — и справедливости, политике, морали вообще,— не создав какой-то концепции того, что такое люди как вид. Признать это — не значит отрицать существование Истории в гегельянско-марксистском смысле35. Люди свободны формировать собственное поведение, поскольку они — культурные животные, способные к самоизменению. История внесла огромные изменения в человеческое восприятие и поведение, настолько, что первобытный охотник-собиратель и обитатель современного информационного общества во многих отношениях принадлежат к разным видам. Развитие человеческих институтов и культурных учреждений создало со временем новую мораль. Но природа полагает пределы возможным самоизменениям. Говоря словами латинского поэта Горация: “Можно выбросить природу вилами,/ Но она всегда прибежит обратно”. И все еще промелькнет проблеск узнавания при встрече дикаря и фаната Интернета.
Но если права человека основаны на существенном понятии природы, что же это за понятие? Можно ли его определить так, чтобы оправдать все, известное науке о человеческом поведении? До сих пор я не выдвигал теории природы человека, даже не давал определения, что это такое. Есть много людей — в основном среди специалистов по общественным наукам, но и среди естественников тоже, — которые отрицают, что существует природа человека в каком-то осмысленном понимании. Следовательно, в идущей далее главе нам надо будет исследовать, что называется видоспецифичным поведением и каково оно может быть для нашего вида.
|
Вы хотите жить “согласно с природой”? О благородные стоики, какой обман слов! Вообразите себе существо, подобное природе, — безмерно расточительное, безмерно равнодушное, без намерений и оглядок, без жалости и справедливости, плодовитое и бесплодное, и неустойчивое в одно и то же время, представьте себе безразличие в форме власти, — как могли бы вы жить согласно с этим безразличием?* Фридрих Ницше, |
* Перевод Н. Полилова.
До сих пор я только утверждал, что права человека должным образом основаны на природе человека, не определяя, что я имею в виду под этим термином. Если учесть тесную связь, существующую между человеческой природой, ценностями и политикой, неудивительно, наверное, что само понятие природы человека последние несколько столетий вызывало крайне ожесточенные споры. Наиболее традиционные дискуссии велись вокруг векового вопроса: где кончается природное и начинается привитое? В конце двадцатого столетия эта тема сменилась иной полемикой, в которой равновесие сильно сдвинулось в пользу привитого, причем многие твердо заявляли, будто поведение человека настолько пластично, что понятие “природы человека” теряет смысл. Хотя последние достижения в науках о жизни делают такую позицию все менее защитимой, все же отрицание существования “природы человека” продолжает жить: недавно энвиронменталист Пауль Эрлих выразил надежду, что люди бросят пустые разговоры о природе человека раз и навсегда, поскольку это понятие не имеет смысла1.
Определение термина “природа человека”, которым я буду пользоваться, следующее: природа человека есть сумма поведения и свойств, типичных для человека как вида и возникающих из генетических, а не энвиронментальных факторов.
Слово “типичных” требует некоторых объяснений. Я употребляю этот термин в том же смысле, что и этологи, когда говорят о “видоспецифичном поведении” (например, образование устойчивых пар типично для малиновок и дроздов, но не для горилл и орангутангов). Общепринятая ошибка в понимании “природы” животного состоит в том, что это слово подразумевает жесткую генетическую определенность. На самом деле все природные свойства показывают заметный разброс в пределах одного и того же вида; иначе невозможны были бы естественный отбор и эволюционная приспособляемость. Особенно это заметно у культурных животных, таких как люди: поскольку поведение может быть усвоено и изменено, разброс в поведении неизбежно более велик и в большей степени отражает влияние среды, чем у животных, неспособных к усвоению культуры. Это означает, что типичность есть искусственный статистический термин — он говорит о чем-то близком к медиане в распределении поведения или свойств.
Возьмем, например, рост человека. Очевидно, существует заметный разброс в этом параметре; в любой заданной популяции распределение роста будет, по термину статистиков, нормальным (колоколообразная кривая). Если мы захотим построить график распределения роста мужчин и женщин в современных США, получится что-то вроде рис. 1 (эти кривые имеют лишь иллюстративное значение).

Рис. 1.
Эти кривые нам много что могут сказать. Прежде всего нет такого понятия, как “нормальный” рост, но распределение роста в популяции имеет медиану и среднее*.
* Медиана — это значение роста такое, что у половины населения он больше, а у половины меньше; среднее — ЭТО средний рост всей популяции. — Примеч. автора.
Строго говоря, нет такого понятия, как “видоспецифичный” рост, есть только видоспецифичное распределение роста; все мы знаем, что существуют великаны и карлики. Но нет и строгого определения великана или карлика; статистики могут произвольно сказать, что карлики — это люди с ростом на два или более стандартных отклонения ниже среднего, а гиганты— соответственно на два или более стандартных отклонения выше. Но ни гиганты, ни карлики не любят, когда их так называют, поскольку эти слова несут в себе намек на аномалию и клеймо, а в этическом смысле этих людей не за что клеймить. Тем не менее это не значит, что бессмысленно говорить о видоспецифичном росте в популяции людей: медиана распределения у людей будет отличной от медианы распределения для шимпанзе и для слонов, и точно так же может отличаться форма колоколообразной кривой — степень разброса. Некоторую роль в определении медианы и формы кривой играют гены; они также ответственны за тот факт, что медианы у мужчин и женщин отличаются.
Но на самом деле взаимодействие природного и привитого куда более сложно. Медианы распределения роста у людей значительно отличаются не только у разных полов, но и у разных этнических и расовых групп. Многое при этом связано со средой; средний рост японцев много поколений был меньше, чем у европейцев, но за короткий период после Второй мировой войны он увеличился благодаря иной, лучшей диете. В целом из-за развития экономики и улучшения питания средний рост увеличился по всей планете, Если сравнить кривые распределения роста в типичной европейской стране между годами 1500 и 2000, то получится набор кривых вроде тех, что показаны на рис. 2.
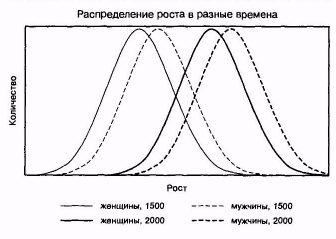
Рис. 2.
Природа, следовательно, не устанавливает единый средний рост людей; цифры среднего роста сами нормально распределены в зависимости от диеты, здоровья и прочих факторов среды. Со времен средневековья произошло сильное увеличение среднего роста, как заметно любому посетителю музея при взгляде на доспехи средневековых рыцарей. С другой стороны, есть пределы этой величине разброса, которые поставлены генетически: если лишить популяцию достаточного числа калорий в среднем, члены ее вымрут, а не станут меньше ростом, а если увеличить калорийность выше некоторой нормы, они станут жирнее, а не выше. (Нет необходимости говорить, что это очень похоже на современную ситуацию в развитых странах.) Средняя европейская женщина в 2000 году заметно выше среднего мужчины 1500 года, но мужчины остаются выше женщин, Фактические значения медианы для любой заданной популяции или исторического периода во многом определяются средой, но общая степень возможного разброса и средней разницы между мужчиной и женщиной — результаты наследственности, следовательно, природы.
Некоторым может показаться, что такое статистическое определение природы человека расходится либо с общим пониманием этого термина, либо с концепцией природы человека, которой пользовались Аристотель и другие философы. Но на самом деле это лишь более точное употребление термина. Когда мы видим, как человек поддается на подкуп, и качаем головой, произнося: “как это в природе человека— обманывать доверие”, или когда Аристотель утверждает, как в “Никомахейской этике”, что “человек по природе — политическое животное”, никогда не подразумевается, что все люди берут взятки или что все люди участвуют в политике. Мы все знаем и честных людей, и отшельников; утверждение о природе человека является либо вероятностным (то есть имеется в виду, что большинство людей большую часть времени так поступают), либо условным— о том, как людям свойственно взаимодействовать со средой (“подвергаясь близкому соблазну, большинство людей возьмет взятку”).
Есть три главные категории аргументов, которые много лет выдвигали критики, доказывая, что традиционное понятие природы человека ведет к заблуждениям или относится к чему-то несуществующему. Первая из них связана с утверждением, что нет настоящих человеческих универсалий, которые можно проследить до общей природы, а те, что есть, — тривиальны (например, что любая культура предпочитает здоровье болезни).
* Против природы (лат.). — Примеч. пер.
Специалист по этике Дэвид Халл утверждает, что многие свойства, которые считаются для людей универсальными и притом присущими только нашему виду, на самом деле ни теми, ни другими не являются. Сюда включается даже язык.
Человеческий язык не распределен универсально среди людей. Некоторые люди не используют и не понимают ничего такого, что можно было бы назвать языком. В некотором смысле такие люди могут не быть “настоящими” людьми, но все же они принадлежат к тому же виду, что и мы, остальные... Они — потенциальные пользователи языка в том смысле, что если бы у них был иной генетический портрет и если бы они подверглись соответствующему влиянию среды, они могли бы усвоить умение пользоваться языком не хуже, чем прочие люди. Но такое противоречащее фактам условие можно применить и к другим видам. В этом смысле и шимпанзе обладают способностью усвоить язык2.
Далее Халл указывает, что можно найти любое количество свойств вида, не распределенных нормально, которые поэтому не могут быть определены медианой и стандартным отклонением. Примером тому — группы крови: у человека может быть группа О, А, В, АВ, но никогда — промежуточного типа между О и А. Эти группы соответствуют аллелям человеческой ДНК, которые либо проявляются, либо нет— как выключатель может быть либо включен, либо выключен. Определенные группы крови могут более или менее превалировать в конкретных популяциях, но так как они не образуют континуум (как различающиеся цифры роста), то бессмысленно говорить о видоспецифичных группах крови. Другие свойства могут образовывать континуум (быть распределены непрерывно): например, цвет кожи варьируется от темного до светлого, но образует кластеры по расовым группам вокруг нескольких пиков или мод.
Это возражение против существования человеческих универсалий обманчиво, потому что использует слишком узкое понятие универсального. Верно, что нельзя говорить об “универсальной” или средней группе крови, поскольку группы крови образуют то, что статистики называют категорийными переменными — свойства, которые попадают в некоторое число неупорядоченных различных категорий. Точно так же нет смысла говорить о “типичном” цвете кожи. Но многие другие свойства, такие как сила или рост, или психологические характеристики, такие как интеллект, агрессивность и самооценка, принимают целый континуум значений и распределены нормально вокруг одной медианы в каждой конкретной популяции. Степень отклонения популяции от медианы (называемая стандартным отклонением) — это в какой-то степени мера того, насколько медиана типична; чем меньше стандартное отклонение, тем более типично значение медианы.
Вот таков контекст, в котором надо понимать “человеческие универсалии”. Свойство не должно иметь дисперсию (стандартное отклонение) ноль, чтобы считаться универсальным, поскольку таких свойств почти нет3. Несомненно, существуют мутантные самки кенгуру, родившиеся без сумок, или быки, рожденные с тремя рогами. Такие факты не лишают смысла заявление, что сумки есть составная часть “кенгуровости” или что быки — животные, обычно имеющие два рога4. Чтобы свойство можно было считать универсальным, оно должно иметь единую отчетливую медиану или моду с относительно малым стандартным отклонением — что-то вроде кривой 1 на рис. 3.
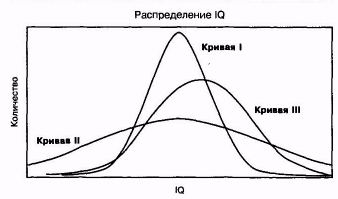
Рис. 3.
Второе критическое замечание по поводу понятия природы человека неоднократно высказывалось в последние годы генетиком Ричардом Левонтином5 и состоит в том, что генотип организма (то есть его ДНК) не определяет полностью фенотип (особь, в которую в конце концов развивается ДНК). То есть даже наша физическая форма и характеристики, не говоря уже о состоянии ума и о поведении, формируются более средой, чем наследственностью. Гены взаимодействуют со средой почти на каждой стадии развития организма, а потому определяют гораздо меньше, чем обычно утверждается сторонниками концепции природы человека.
Мы уже видели это на примере среднего роста, который частично определяется природой, а частично — диетой и другими внешними факторами. Левонтин иллюстрирует свою точку зрения достаточным числом иных примеров. Он указывает, что даже мыши, выведенные генетически идентичными, по-разному реагируют на яд в окружающей среде и что отпечатки пальцев идентичных близнецов никогда не совпадают6. Есть такой вид горных растений, у которых внешний вид полностью меняется в зависимости от высоты, на которой они растут. Хорошо известно, что младенцы, снабженные одним и тем же набором генов, сильно отличаются физически и умственно в зависимости от поведения матери в период беременности — пьет ли она, принимает наркотики, достаточно ли хорошо питается и так далее. То есть взаимодействие индивида со средой начинается задолго до рождения; свойства, которые мы привыкли относить к природным, являются, следовательно, продуктом сложного взаимодействия природы и среды.
Это возвращение к противоречию между природным и привитым можно проиллюстрировать кривыми распределения различной формы. Например, высокая кривая 1 на рис. 3 — гипотетическое распределение IQ в популяции при (нереалистичном) допущении, что все индивиды находятся в одинаковой среде по отношению к влияющим на IQ факторам — питание, образование и так далее. Она показывает естественный, или генетический, разброс. Фактическое распределение IQ в любой популяции неизбежно будет больше похоже на кривую 2, отражающую тот факт, что общество некоторых подавляет, а некоторых лелеет, и это сказывается на интеллекте. Эта кривая ниже и шире, и большее число индивидов будет дальше от среднего значения. Чем больше разница форм этих двух кривых, тем больше влияние среды по сравнению с наследственностью.
Утверждение Левонтина справедливо в этом смысле, но вряд ли оно отменяет понятие природы человека. Как уже замечалось в рассуждениях о росте, под влиянием среды может меняться средний рост, но не может рост человека превысить некоторый верхний предел или оказаться меньше нижнего, и не может средний рост женщин оказаться больше среднего роста мужчин. Эти параметры все же задаются природой. Более того, часто существует линейная зависимость между средой, генотипом и фенотипом, которая гарантирует, что если генетические отклонения нормально распределены, то фенотипические отклонения также будут распределены нормально. То есть когда мы улучшаем свою диету, мы в среднем становимся выше (в видоспецифичных пределах); кривые распределения роста по-прежнему имеют одну медиану, хотя они подвержены действию среды. В большинстве своем свойства людей не подобны свойствам горных растений, имеющих совершенно разный вид на разных высотах. Дети не отращивают мех, если родились в холодном климате, и не отращивают жабры, если живут вблизи моря.
Таким образом, важно не то, влияет ли среда на поведение и свойства, типичные для человека как вида, важно — насколько влияет. Во второй главе упоминалось утверждение Мюррея и Хернштейна из книги “Гауссова кривая”, что до 70% разброса IQ вызывается наследственностью, а не средой. Левонтин и его коллеги возражают, что фактическая кривая на самом деле намного ниже, до такой степени, что факторы наследственности играют в определении IQ очень малую роль7. Это вопрос эмпирический, и такой, в котором Левонтин, кажется, не прав: в психологии существует консенсус, основанный на изучении близнецов, относительно того, что хотя эта кривая ниже, чем по оценке Мюррея — Хернштейна, все же она лежит в диапазоне от 40 до 50%,
Степень наследуемости какого-либо свойства или вида поведения сильно варьируется; предпочтения в музыке практически полностью формируются средой, которая почти не оказывает влияния на такие генетические болезни, как хорея Гентингтона. Знать степень наследуемости конкретной характеристики очень важно, если она существенна, как IQ: индивидуумы, попадающие выше кривой 1, но ниже кривой 2, предположительно попадают туда не по природным причинам, а под воздействием среды. Если эта область велика, то есть надежда на возможность сдвинуть медиану кривой к чему-то вроде кривой 3, сочетая диету, воспитание и социальную политику.
В то время как аргументы Левонтина о том, что генотип не определяет фенотип, относятся ко всем видам, третьего рода критика видоспецифичной природы применима почти исключительно к человеку8. А именно, люди суть культурные животные, которые могут изменять свое поведение путем самообучения и передавать обретенные знания и умения следующим поколениям не генетическим путем9. Это значит, что разброс поведения человека куда больше, чем практически для любого другого вида: система родства у человека простирается от сложно устроенных кланов и родов до неполной семьи с одним родителем, чего нет в системе родства горилл или малиновок. Как сказал бы противник понятия человеческой природы вроде Пауля Эрлиха, наша природа не обязана иметь единую природу. Таким образом, он утверждает, что “граждане долго существующих демократий имеют иную человеческую природу, нежели те, кто привык жить под диктатурой”, а в другом месте замечает, что “природа многих японцев сильно изменилась под влиянием поражения и открытия правды о японских военных преступлениях”10. Это напоминает мне известную фразу из одного романа Вирджинии Вульф: “В декабре 1910 года или около того изменился человеческий характер”.
Эрлих просто повторяет в крайней форме взгляд социал-конструкционистов на поведение человека, который был широко распространен пятьдесят лет назад, но оказался сильно скомпрометирован исследованиями последних десятилетий. Верно, что в популярной печати пишут о “генах” чего угодно, от рака груди до агрессивности, и это дает людям ложное ощущение биологического детерминизма; тут полезно было бы напомнить, что культура и социальная конструкция продолжают играть в нашей жизни важную роль. Но результат, что наследуемость IQ составляет сорок—пятьдесят процентов, содержит в себе оценку влияния культуры на IQ и подразумевает, что даже если принять в расчет культуру, все равно останется существенный наследуемый компонент IQ.
Аргумент, что человеческой природы не существует, поскольку люди — культурные животные и способны обучаться, в корне неверен, так как он бьется с воображаемым противником. Ни один серьезный теоретик человеческой природы никогда не отрицал, что люди суть культурные создания или что они могут с помощью самообучения, образования и социальных институтов формировать свой образ жизни. Аристотель говорил, что человеческая природа не приводит нас автоматически к нашим зрелым формам так, как вырастает желудь на дубе. Процветание человека зависит от достоинств, которые человек должен приобретать намеренно: “Таким образом, добродетели порождаются в нас не природой и не насилием над природой, природа дает нам способность их приобретать, и [эта способность] совершенствуется с приобретением привычки”11. Такая вариативность индивидуального развития отражается в вариативности справедливости: несмотря на то что природной справедливости не существует, “все нормы справедливости изменчивы”12. Совершенная справедливость требует, чтобы кто-то основал города и написал законы для этих городов, соответствующие существующим условиям13. Аристотель замечает, что хотя “правая рука обычно сильнее левой, но любой человек может научиться одинаково действовать обеими руками”: воздействие культуры может преодолеть природу. В системе Аристотеля достаточно места для того, что мы сегодня называем культурными вариациями и историческим развитием.
И Платон, и Аристотель считали, что разум не есть просто совокупность когнитивных способностей, данных нам при рождении, а представляет собой в некотором роде бесконечное стремление к знаниям и мудрости, которое надо культивировать у молодых посредством образования, а в зрелом возрасте— накоплением жизненного опыта. Человеческий разум не диктует единый набор учреждений или наилучший образ жизни, как сказал впоследствии Кант, “априорным образом” (то есть в стиле математического доказательства). Нет, он дает людям возможность вдаваться в философские рассуждения о природе справедливости или о наилучшем образе жизни, основанном как на их неизменной природе, так и на изменяющейся среде. Открытый характер человеческого стремления к знаниям полностью совместим с концепцией человеческой природы — и действительно, оно составляет для классических философов политики критически важную часть того, что они понимали под человеческой природой.
Науки о жизни сильно расширили наш запас эмпирического знания о природе человека и его поведении, и потому вполне резонно было бы пересмотреть некоторые классические мысли о человеческой природе. Тогда станет ясно, какие из них устояли под тяжестью новых фактов, какие опровергнуты, а какие необходимо модифицировать в свете того, что нам уже известно. Многие ученые уже пытались это сделать, в том числе Роджер Мастере14, Майкл Руз и Эдуард О. Уилсон15, и Ларри Арнхарт16. В книге Арнхарта “Дарвинистское естественное право” делается попытка показать, что Дарвин не подрывает этическую систему Аристотеля и что результаты современной дарвинистской биологии могут использоваться для подтверждения многих высказываний Аристотеля о естественной морали17. Арнхарт перечисляет двадцать естественных желаний, которые являются универсалиями человеческой природы18.
Такие списки обычно вызывают возражения, поскольку они бывают либо неполными и слишком общими, либо чрезмерно конкретизированы и страдают отсутствием универсальности. Более важным, чем общее определение наших целей на данный момент, является попытка выделить свойства, уникальные для вида, поскольку они играют ключевую роль в любом понимании конечного вопроса о человеческом достоинстве. Мы можем начать с умения познавать — характеристики вида, которой мы, люди, необычайно гордимся.
Многое из того, что мы за последние годы узнали о человеческой природе, касается, как будет видно далее, видоспецифичных способов, с помощью которых мы воспринимаем и усваиваем информацию и интеллектуально развиваемся. У людей свой способ познания, отличающийся от способа обезьян и дельфинов; этот способ позволяет накапливать новые знания, но не бесконечно.
* чистая доска (лат.). — Примеч. пер.
Очевидным примером является язык. Реальные человеческие языки условны, и одна из величайших пропастей, разделяющих группы людей, есть взаимное непонимание различных языков. С другой стороны, способность усваивать языки универсальна и определяется некоторыми биологическими свойствами человеческого мозга. В 1959 году Ноам Хомски предположил, что существуют “глубинные структуры”, лежащие в основе синтаксиса всех языков19; идея, что эти глубинные структуры являются врожденными, генетически запрограммированными аспектами развития мозга, сегодня широко принята20. Гены, а не культура, гарантируют появление способности к изучению языка в какой-то момент первого года жизни ребенка, и уменьшение этих способностей, когда ребенок достигает отрочества.
Мысль о том, что существуют врожденные формы человеческого познания, получила за последние годы огромное количество эмпирических подтверждений, но одновременно встретила и сильное сопротивление. Причина этого сопротивления, особенно в англосаксонском мире, связана с продолжающимся влиянием Джона Локка и созданной им школы британского эмпиризма. Свои “Эссе о природе человеческого понимания” Локк начинает с утверждения, что в человеческом разуме нет врожденных идей, в частности, врожденных моральных идей. Это и есть знаменитая локковская tabula rasa, мозг — это что-то вроде универсального компьютера, который может принимать и обрабатывать сенсорные данные, ему передаваемые. Но его память в момент рождения, по сути, пуста.
Tabula rasa Локка оставалась сильной и привлекательной идеей в середине двадцатого века, когда ее подхватила бихэвиористская школа Джона Уотсона и Б.Ф. Скиннера. Последний выдвинул даже более радикальную версию, утверждая, что нет видоспецифичных способов обучения и что, например, голубей можно научить узнавать себя в зеркале, как это делают люди и обезьяны, если правильно сочетать поощрения и нака-зания21. Современная культуральная антропология также принимает допущение tabula rasa: антропологи среди прочего утверждают, что понятия времени и цвета — социальные конструкты, присутствующие не во всякой культуре". В исследованиях в этой области и близком к ней изучении культур последние лет сорок делается серьезный упор на поиск необычной, странной или неожиданной культурной практики— под влиянием презумпции Локка, что единственное исключение из общего правила опровергает правило.
Сегодня идея tabula rasa лежит в развалинах. Исследования в когнитивной неврологии и психологии заменили чистую доску представлением о мозге как о составном органе, полном весьма приспособленных когнитивных структур, большинство из которых свойственно только человеку как виду. На самом деле оказалось, что есть нечто вроде врожденных идей — или, точнее, врожденных видоспецифичных форм познания и видоспецифичных эмоциональных откликов на познание.
Проблема со взглядами Локка на врожденные идеи частично относится к определению: он утверждает, что ничего не может быть ни врожденным, ни универсальным, если оно не свойственно каждому отдельному индивиду популяции. Если говорить языком статистики из начала этой главы, то это значит, что природные, или врожденные, свойства должны иметь разброс (стандартное отклонение) ноль. Но, как мы видели, в природе ничего таким свойством не обладает: даже два однояйцовых близнеца с одним и тем же генотипом проявляют некоторые различия в фенотипе из-за слегка различающихся условий в утробе.
Аргументы, которые выдвигает Локк против существования моральных универсалий, страдают тем же недостатком — они требуют нулевого разброса*. Он утверждает, что Золотое Правило (то есть принцип взаимности), которое есть ключевое понятие христианства и других мировых религий, уважается не всеми людьми, а многими нарушается на практике". Он замечает, что даже любовь родителей к детям и наоборот не мешает таким аномалиям, как инфантицид и намеренное убийство престарелых родителей24. Инфантицид, как он замечает, практиковался без сожаления у мингрелов, греков, римлян, а также у других народов.
Но хотя четко сформулированное Золотое Правило может не быть универсальным для человеческих культур, нет культур, в которых не практикуется в той или иной форме взаимность, и мало таких, в которых она не является центральным компонентом морального поведения. Можно с уверенностью сказать, что это не просто результат усвоенного поведения. Биолог Роберт Трайверс показал, что некоторая форма взаимности заметна не только в различных человеческих культурах, но и в поведении многих других видов животных, что указывает на ее генетические причины25. Аналогично теория базового родственного отбора объясняет возникновение родительской любви.
* Локк попадает в другую проблему определений: он хочет говорить о врожденных идеях как о строго сформулированных словесных предложениях вроде: “Родители должны беречь своих детей”. Локк утверждает, что подразумеваемый здесь долг не может быть понят, если нет понятия закона и законодателя. Действительно, универсальных идей подобной формы не бывает; но универсальны эмоции, которые заставляют родителей защищать своих детей и стремиться к лучшему для них. Следующий шаг— формулировка ценностей, вытекающих из этих эмоций — делается не всегда. — Примеч. автора.
В последние годы проводилось много этологических исследований инфантицида, показавших, что он широко практикуется в животном мире, а также в различных человеческих культурах26. Но ничто из этого не доказывает точки зрения Локка, потому что чем пристальнее изучать фактическую практику инфантицида, тем яснее становится, что он мотивируется исключительными обстоятельствами, которые объясняют, каким образом могут быть преодолены эмоции родительской заботы, обычно столь сильные27. Эти обстоятельства включают желание отчима или нового партнера устранить отпрыска соперника; отчаяние, болезнь или крайнюю бедность матери; свойственное данной культуре предпочтение детей мужского пола; или рождение болезненного или уродливого младенца. Трудно найти общество, где инфантицид не практиковался бы в первую очередь обитателями социального дна; там, где ресурсы позволяют семье воспитать детей, родительские инстинкты доминируют. И, вопреки Локку, если инфантицид происходит, то редко когда “без сожаления”28. Инфантицид— частный случай убийства: нечто, происходящее повсеместно, но повсеместно осуждаемое и преследуемое.
Иными словами, существует моральное чувство человека, развившееся за долгое время из требований гоминид, которым предстояло развиться в интенсивно общественный вид. Локк прав относительно tabula rasa в узком смысле: мы не рождаемся с предварительно сформированными моральными идеями. Но есть врожденные эмоциональные реакции, свойственные человеку, под влиянием которых моральные идеи формируются относительно одинаково для всего вида. Это часть того, что Кант назвал трансцендентальным единством апперцепции — то есть человеческих способов восприятия реальности, которые придают этому восприятию порядок и смысл. Кант считал, что пространство и время — единственные необходимые структуры человеческого восприятия, но мы можем к этому списку добавить еще многое. Мы видим цвета, реагируем на запахи, распознаем выражение лица, анализируем язык в поисках признаков обмана, избегаем определенных опасностей, входим во взаимные отношения, стремимся к мести, смущаемся, заботимся о наших детях и родителях, испытываем отвращение к инцесту и каннибализму, приписываем причины событиям и еще многое другое делаем, поскольку эволюция запрограммировала ум человека на видоспецифичное поведение. Как и в случае языка, мы должны учиться путем взаимодействия со средой, чтобы пользоваться этими способностями, но потенциал их развития и пути, которыми они запрограммированы развиваться, даются от рождения.
Связь между правами и видоспецифичным поведением становится очевидной, если рассмотреть вопрос о правах животных. Сегодня по всему миру поднялось очень мощное движение за права животных, которое стремится улучшить жребий обезьян, кур, норок, свиней, коров и других животных, которых мы забиваем, едим, на которых экспериментируем или носим их шкуры, превращаем в кожаную обивку и вообще no-всякому трактуем как средства, а не как цели в себе. Радикальное крыло движения иногда прибегает к насилию и взрывает биологические лаборатории и бройлерные фабрики. Специалист по биоэтике Питер Сингер построил свою карьеру на пропаганде прав животных и критике того, что он называет “видизмом” человека — созданием несправедливых выгод своему виду за счет других29. Все это приводит нас к вопросу, поставленному Джеймсом Уотсоном в начале седьмой главы: что дает право саламандре?
Самый простой и прямолинейный ответ на этот вопрос, применимый, наверное, не только к саламандре, но уж точно к существам с более развитой нервной системой, таков: они могут испытывать боль и страдание30. Это этическая истина, которую может засвидетельствовать любой кошко- или собаковладелец; и моральный импульс, лежащий в основе движения за права животных, во многом связан с понятным желанием уменьшить их страдания. Наша повышенная чувствительность к этому вопросу вызвана не только распространившимся в мире принципом равенства, но также и накопленным эмпирическим знанием о животных.
Большой объем работы, проведенный в этологии животных за последние лет пятьдесят, несколько размыл отчетливую границу, которая когда-то отделяла человека от прочего животного мира. Конечно, теоретическую базу для концепции, что человек произошел от древней обезьяны и что все виды находятся в постоянном процессе изменения дал Чарльз Дарвин. Многие из свойств, которые когда-то считались присущими только человеку — в том числе язык, культура, разум, сознание и так далее, — теперь рассматриваются как свойства целого ряда других животных31.
Например, приматолог Франс де Вааль указывает, что культура — то есть способ передавать усвоенное поведение от поколения к поколению негенетическими средствами — не является исключительно человеческим достижением. Он приводит знаменитый пример с макаками на маленьком японском островке, моющими картошку32. В пятидесятых годах группа японских приматологов заметила, что одна из макак (так сказать, Эйнштейн среди обезьян) приобрела привычку мыть картофелины в ручейке. Та же особь потом обнаружила, что зерна ячменя можно отделить от песка, если бросить их в воду. Ни то, ни другое не является генетически запрограммированным поведением: ни картофель, ни ячмень не входят в традиционное меню макак, и никто раньше такого поведения не замечал. Но и мытье картошки, и отделение ячменя от песка были замечены на том же острове у других макак через несколько лет после того, как первая обезьяна открыла эти способы. Значит, она научила своих товарищей, а те передали это поведение молодым.
Шимпанзе более похожи на людей, чем макаки. У них есть язык из горловых и грудных звуков, и в неволе их удавалось научить понимать и употреблять ограниченный набор человеческих слов. В книге “Политика шимпанзе” де Вааль описывает интриги группы шимпанзе, желавших достичь статуса самцов альфа в колонии живущих в неволе обезьян в Нидерландах. Они входили в союзы, предавали друг друга, умоляли, просили и обманывали способами, которые показались бы Макиавелли очень и очень знакомыми. У шимпанзе также, похоже, есть чувство юмора, как объясняет де Вааль в книге “Обезьяна и мастер суши”.
Когда на полевую станцию в центре приматов в Йеркесе, вблизи Атланты, где я работаю, приезжают гости, обычно они наносят визит моим шимпанзе. Зачастую наша любимая хулиганка, самка по имени Джорджия, завидев их приближение, спешит к крану и набирает полный рот воды... Если надо, Джорджия может несколько минут ждать, закрыв рот, пока гости подойдут поближе. Потом будет визг, смех, подпрыгивания, а иногда кто-нибудь и упадет, когда она на них брызнет.
...Однажды я оказался с Джорджией в такой же ситуации. Она набрала воды из крана и подкрадывалась ко мне. Я посмотрел ей прямо в глаза, наставил на нее палец и предупредил по-голландски: “Я тебя вижу!” Она тут же подалась назад, часть воды выплюнула, а остальное проглотила. Я, конечно, не утверждаю, что она понимает по-голландски, но она наверняка почувствовала, что я знаю, что она задумала, и со мной этот номер не пройдет.33
Джорджия, как видно, не только умела шутить, но и могла смущаться, когда ее поймают на недозволенном.
Такие примеры часто приводятся не только в поддержку прав животных, но и для отрицания претензий человека на исключительность и особый статус. Некоторые ученые упиваются разрушением традиционных представлений о человеческом достоинстве, особенно основанных на религии. Как будет видно из следующей главы, человеческое достоинство пока еще устояло против этих нападок, но правда и то, что у многих животных имеются общие с человеком важные свойства. Люди всегда сентиментально упоминали свою “обшечеловечность”, но во многих случаях, оказывается, имелась в виду “общеживотность”. Например, у слонов родители оплакивают потерю детеныша, и слоны приходят в сильное возбуждение, если находят труп сородича. Не надо слишком напрягать воображение, чтобы заметить отдаленное сходство горя человека по погибшему родственнику или его ужаса при виде трупа с поведением слонов. (Вот почему, наверное, мы парадоксально называем общества защиты животных “гуманными”.)
Но если животные имеют “право” на избавление от ненужных страданий, то природа и границы этого права полностью определяются эмпирическим наблюдением, что именно типично для их вида — то есть на суждение об их природе по существу. Насколько мне известно, даже самые радикальные активисты прав животных никогда ничего не говорили о правах вирусов СПИД или бактерии Е. Coli, которых люди намеренно уничтожают каждый день миллиардами. Мы не пытаемся договориться о правах этих существ, поскольку они, не имея нервной системы, не могут страдать или осознавать свое положение. Мы стараемся в связи с этим предоставить больше прав сознательным существам, поскольку они, как люди, могут предвидеть страдание и испытывать надежду и страх. Различие подобного рода может послужить разграничению прав саламандры и, скажем, вашего пса Ровера — к облегчению Уотсонов всего мира.
Но если даже мы примем как факт, что у животных есть право на избавление от ненужных страданий, все равно существует целый ряд прав, которые не могут им быть предоставлены, поскольку они не люди. Мы даже не будем говорить о предоставлении права голосовать, например, созданиям, которые в массе своей не могут усвоить человеческий язык. Шимпанзе способны общаться между собой на языке, типичном для их вида, и могут овладеть очень ограниченным набором человеческих слов, если их интенсивно обучать, но овладеть человеческим языком они не могут и не обладают, вообще говоря, человеческим самосознанием. То, что некоторые люди тоже не способны овладеть человеческим языком, подтверждает его важность для политических прав: дети лишены права голосовать, поскольку они в массе не обладают когнитивными способностями обычного взрослого. Во всех этих случаях видоспецифические различия между животными, с одной стороны, и людьми, с другой, вызывают огромную разницу в нашем понимании их морального статуса34.
Чернокожие и женщины когда-то были отстранены от голосования в США на том основании, что у них нет достаточных когнитивных способностей, чтобы должным образом осуществить это право. Сегодня чернокожие и женщины могут голосовать, потому что мы эмпирически установили когнитивные способности обеих этих групп. Принадлежность к какой-либо из групп не гарантирует, что личные свойства человека будут близки к среднему в этой группе (я знаю много детей, которые голосовали бы куда мудрее своих родителей), но она — хороший индикатор способностей для практических целей.
Поэтому то, что сторонники прав животных вроде Питера Сингера называют “видизмом”, не обязательно невежественный и эгоистический предрассудок со стороны людей, но мнение о человеческом достоинстве, которое можно подкрепить эмпирически обоснованными взглядами на особое место человека. Мы затронули этот вопрос в рассуждении о познавательной способности человека. Но если мы хотим найти источник этого превосходящего морального статуса человека, который ставит нас над всеми остальными животными и при этом делает нас равными друг другу как людей, нам нужно узнать больше о том подмножестве свойств человеческой природы, которые не просто типичны для нашего вида, но специфичны только для него. И лишь тогда мы будем знать, что сильнее всего надо защитить от будущего развития биотехнологий.
|
Так возможно ли вообразить себе новую натурфилософию, постоянно осознающую, что “естественный объект”, созданный анализом и абстракцией, является не реальностью, а лишь видимостью, и всегда корректирующую эту абстракцию? Я даже вряд ли могу сказать, о чем спрашиваю... Возрожденная наука, которую я имею в виду, даже для минералов и овощей никогда не сделает того, что современная наука угрожает сделать для самого человека. Когда она давала объяснение, это было именно объяснение, а не отговорка. Когда она говорила о частях, она помнила о целом... Аналогия между дао Человека и инстинктами животного значила бы для нее новый свет, пролитый на непознанный предмет, на Инстинкт, глубоко познанной реальностью сознания, а не редукцию сознания до категории Инстинкта. Ее последователи не обращались бы свободно со словами только и всего лишь. Короче говоря, она покорила бы природу, не будучи одновременно покорена ею, и покупала бы знание по цене ниже, чем цена жизни. К.С. Льюис, “Человек отменяется”1 |
Согласно декрету Совета Европы о клонировании человека, “Использование людей как орудий путем намеренного создания генетически идентичных людей противоречит человеческому достоинству и потому является злоупотреблением медициной и биологией”2. Человеческое достоинство — одна из тех концепций, которую политики, как вообще все участники политической жизни, упоминают через слово, но которую почти никто не может четко определить или объяснить.
Существенная часть политики вертится вокруг вопроса о человеческом достоинстве и жажде признания, с которой оно связано. То есть человек постоянно требует от других признания своего достоинства либо как личности, либо как члена религиозной, этнической, расовой или иной группы. Борьба за признание не экономическая: мы жаждем не денег, но уважения других людей, которого, как мы считаем, мы заслужили. В прежние времена правители желали от других признания своей высшей ценности как царя, императора или господина. Сегодня люди стремятся к утверждению своего равного статуса как члены ранее недостаточно уважаемых или униженных групп — женщин, геев, украинцев, инвалидов, американских индейцев и т.д.3
Требование равенства признания или уважения — доминирующая страсть нового времени, как отмечал более сто семидесяти лет назад Токвиль в книге “Демократия в Америке”4. Это значит, что либеральная демократия — вещь непростая. Не обязательно, чтобы мы считали себя равными во всех главных отношениях или требовали, чтобы у нас была точно такая жизнь, как у других. Большинство людей мирится с фактом, что Моцарт, или Эйнштейн, или Майкл Джордан обладают талантами и способностями, которых нет у них самих, и что эти люди получают признание и даже денежную компенсацию за применение этих талантов. Мы принимаем, хотя нам это и не обязательно нравится, тот факт, что ресурсы распределяются неравномерно, на основании того, что Джеймс Мэдисон назвал “различными и неравными способностями приобретать собственность”. Но мы также считаем, что люди заслуживают права сохранять ими заработанное и что способности к работе и заработку у людей не одинаковы. И мы принимаем факт, что мы выглядим по-разному, происходим от разных рас и народов, принадлежим к разным полам и разным культурам.
Что подразумевает требование равного признания — так это то, что когда мы стираем случайные и несущественные черты личности, остается некое важное человеческое качество, достойное некоего минимального уровня уважения, — назовем это качество “Фактором икс”. Цвет кожи, внешний вид, общественный класс и богатство, пол, культурный багаж и даже природные таланты человека — все это случайные капризы рождения, отнесенные к классу несущественных свойств. На основании этих вторичных характеристик мы принимаем решения, с кем дружить, на ком жениться и с кем делать бизнес или от кого шарахаться на общественных мероприятиях. Но в области политики мы требуем равного уважения ко всем людям на основе наличия у них “Фактора икс”. Любое создание, лишенное “Фактора икс”, можно варить, есть, пытать, обращать в рабство или перерабатывать его труп, но совершивший это в отношении человека будет повинен в “преступлении против человечности”. Мы признаем за существами — обладателями “Фактора икс” не только права человека, но — если они взрослые — и политические права, то есть право жить в демократическом обществе, где уважаются их права на свободу слова, религии, собраний, союзов и участие в политике.
Круг существ, за которыми мы признаем “Фактор икс”, всегда был одним из самых спорных вопросов в течение всей истории человечества. Во многих обществах, включая демократические в ранний период их развития, “Фактором икс” обладало собственное подмножество рода человеческого; он не признавался за людьми определенного пола, экономического класса, расовой и племенной принадлежности, людьми с низким интеллектом, инвалидностью, врожденными дефектами и так далее. Общества эти были сильно стратифицированы, некоторые классы обладали “Фактором икс” в большей или меньшей степени, другие не обладали им вообще. Сегодня для приверженцев либерального равенства “Фактор икс” обведен резкой красной чертой, включающей весь род человеческий, и он требует равенства в уважении для всех, кто попадает внутрь, но тем, кто снаружи, приписывается более низкий уровень достоинства. “Фактор икс” есть существо человека, самый смысл того, что значит быть человеком. Если все люди фактически равны в достоинстве, то они должны все обладать “Фактором икс”. Так что же это за “Фактор икс” и откуда он берется?
Для христиан ответ прост и легок: от Бога. Человек создан по образу Божию, а потому обладает некоторой Божественной святостью, что ставит людей на более высокий уровень уважения, нежели все остальное творение. Говоря словами папы Иоанна Павла Второго, это значит, что “человеческая личность не может служить только средством или только орудием ни для вида, ни для общества; она имеет ценность сама по себе. Человек есть личность. Обладая разумом и волей, он способен вступать в общественные отношения, быть солидарным и отдавать себя равным себе... Добродетелью своей бессмертной души человек обретает такое достоинство даже в своем теле”5.
Но допустим, что некто — не христианин (или вообще не верующий ни в каких богов) и не принимает допущения, что человек создан по образу Божию. Есть ли секулярные основания считать, что людям положен особый моральный статус или особое достоинство? Наверное, наиболее знаменитая попытка создать философские основы для человеческого достоинства принадлежит Канту, который утверждал, что “Фактор икс” основан на способности человека к нравственному выбору. То есть хотя люди различаются интеллектом, богатством, расой и полом, все они равно способны следовать или не следовать нравственному закону. Люди обладают достоинством, поскольку только у них есть свободная воля — не субъективная иллюзия свободной воли, но реальная способность преодолевать детерминизм природы и обычные законы причинности. Именно существование свободы воли привело Канта к хорошо известному заключению, что люди всегда должны рассматриваться как цель, а не как средство.
Очень трудно было бы людям, которые верят в материалистическую природу вселенной, — в это число входит подавляющее большинство ученых-естественников, — принять кантовское понятие человеческого достоинства. Причина в том, что это заставило бы их принять некоторый дуализм: существует параллельно царству природы некоторое царство свободы человека, и последнее не детерминировано первым. Почти все естественники утверждают: то, что мы считаем свободой воли, на самом деле — иллюзия, и решения, которые человек в конце концов принимает, можно проследить до материальных причин. Человек решает делать то, а не это, потому что включается тот набор нейронов, а не этот, и эта последовательность включений нейронов может быть прослежена до исходного материального состояния мозга. Процесс принятия решения у человека может быть сложнее, чем у всех животных, но нет резкой границы, отделяющей нравственный выбор человека от выбора, который совершают животные. Сам Кант не предложил никакого доказательства существования свободной воли; он говорит только, что она— необходимый постулат чистого практического рассуждения о природе и нравственности — а такой аргумент прожженный ученый-эмпирист вряд ли примет.
Проблема, которую ставит современная наука, уходит даже глубже. Сама концепция, что существует нечто, называемое “человеческой сущностью”, подвергается непрестанным атакам современной науки уже полтора столетия. Одно из самых фундаментальных утверждений дарвинизма — что виды не имеют сущностей6. Аристотель верил в вечность видов (то есть в то, что называемое нами “видоспецифичным поведением” есть нечто неизменное), теория Дарвина утверждает, что это поведение меняется в ответ на взаимодействие организма со средой.- То, что типично для какого-то вида, есть моментальный снимок вида в какой-то миг эволюционного времени; то, что было раньше, и то, что будет потом, будет иным. Так как дарвинизм утверждает, что нет космической телеологии, направляющей процесс эволюции, значит, то, что кажется сущностью вида, — всего лишь случайный побочный продукт слепого процесса эволюции.
С этой точки зрения то, что мы называем человеческой природой, есть всего лишь видоспецифичные свойства и поведение человека за последние этак тысяч сто лет, в течение того периода, который эволюционные биологи называют “эрой эволюционной адаптации”, — когда предки современных людей жили и плодились в африканской саванне. Для многих это значит, что человеческая природа не имеет особого статуса как руководство к нравственным ценностям, поскольку она исторически случайна. Например, Дэвид Халл пишет:
Я не вижу, почему так важно существование человеческих универсалий. Может быть, у всех людей и только у них большой палец противопоставлен остальным, все они и только они используют орудия, живут в обществе или вообще что вам угодно. Я думаю, что такие атрибуции либо ложны, либо пусты, но даже если они верны и существенны, распределение этих свойств во многом вопрос эволюционной случайности.7
Генетик Ли Сильвер, стараясь опровергнуть идею, будто существует естественный порядок, который генная инженерия может подорвать, утверждает:
Свободная эволюция никогда не направлена [к какой-то цели] и не обязательно связана с прогрессом — это всего лишь ответ на непредсказуемые изменения среды. Если бы астероид, столкнувшийся с нашей планетой 60 миллионов лет назад, пролетел мимо, людей бы сейчас вообще не было. И каков бы ни был естественный порядок, он не обязан быть хорошим. Вирус оспы был частью миропорядка, пока вмешательство человека не привело к тому, что он вымер.8
Неспособность определить природную сущность ни одного из этих авторов не беспокоит. Халл, скажем, утверждает: “Мне лично было бы крайне неловко основывать такую важную вещь, как права человека, на таких временных случайностях [как человеческая природа]... Я не вижу, почему это важно. Не вижу, например, почему мы должны быть по сути одинаковыми, чтобы иметь права”9. Сильвер же, со своей стороны, развеивает страхи относительно генной инженерии со стороны людей с религиозными убеждениями или сторонников естественного порядка. В будущем человек станет уже не рабом своих генов, а их господином:
Почему не взять эту власть? Почему не управлять тем, что раньше было отдано на волю случая? Мы ведь управляем другими аспектами жизни наших детей и их личностей с помощью сильного общественного влияния, с помощью среды, а иногда даже используем такие мощные лекарства, как риталин и прозак. На каком основании можем мы отвергать положительное генетическое влияние на сущность личности, когда признаем права родителей действовать на благо детей любым другим способом?10
Действительно, почему не взять эту власть?
Ладно, для начала посмотрим, куда приведет отказ от концепции, что существует “Фактор икс”, или человеческая сущность, которая объединяет всех людей, какие результаты даст этот отказ для лелеемой идеи всеобщей либеральной демократии — а к этой идее твердо привержены практически все ниспровергатели концепции человеческой сущности. Халл прав, что мы не должны быть все одного порядка, чтобы иметь права, но мы должны быть одинаковы в каком-то ключевом аспекте, чтобы иметь равные права. Он лично весьма озабочен тем, что обоснование прав человека природой человека заклеймит гомосексуалистов, потому что их сексуальная ориентация отличается от гетеросексуальной нормы. Но единственное основание, на котором можно требовать равных прав для геев, — это утверждение, что, какова бы ни была их сексуальная ориентация, они тоже люди в каком-то другом отношении, более существенном, чем сексуальность. Если этой общей почвы найти нельзя, то нет причины их не дискриминировать, потому что они на самом деле создания, отличные от прочих.
Аналогично и Ли Сильвер, который так рвется к власти генной инженерии для “улучшения” людей, все-таки боится, что ею может воспользоваться класс людей генетически высших. Он рисует сценарий, когда класс “генетически богатых” постепенно повышает когнитивные способности своих детей до такой степени, что они выпадают из человеческой расы и образуют отдельный вид.
Сильвера не слишком пугает остальное, что может принести нам способ неестественного размножения — например, две лесбиянки могут произвести отпрыска или у женского зародыша берется яйцеклетка и выращивается ребенок, мать которого никогда не рождалась на свет. Он отмахивается от нравственных вопросов практически любой религии или традиционной системы морали по отношению к будущей генной инженерии, но проводит черту перед тем, что воспринимает как угрозу равенству людей. Кажется, он не понимает, что если исходить из его допущений, не существует оснований для возражения против “генетически богатых” или против того факта, что они могут присвоить себе права, высшие по сравнению с “генетически бедными”. Поскольку нет стабильной сути, общей для всех людей, а есть суть переменная и подверженная воздействию человека, почему не создать расу, рождающуюся с метафорическими седлами на спине, и другую, рождающуюся с метафорическими шпорами на ногах? Почему бы и эту власть не взять?
Специалист по биоэтике Питер Сингер, чье назначение в Принстонский университет вызвало весьма неоднозначную реакцию из-за его пропаганды в определенных обстоятельствах инфантицида и эвтаназии, просто последовательнее большинства людей в том, что следует из отказа от концепции человеческого достоинства. Сингер — несгибаемый утилитарист; он считает, что единственно верный стандарт для этики— минимизация страданий в сумме для всех созданий. Люди — часть континуума жизни, и никакого особого статуса не имеют в его открыто дарвинистской точке зрения. Это приводит его к двум безупречно логичным заключениям: необходимость прав для животных, поскольку животные могут испытывать боль и страдания, как люди, и снижение прав детей и стариков, которые лишены некоторых ключевых свойств, таких как самосознание, позволяющих бы им предвидеть боль. Права некоторых животных, согласно его взглядам, заслуживают большего уважения, чем права некоторых людей.
Но Сингер и близко не настолько честен в следовании этим предпосылкам, чтобы дойти до логического их заключения, потому что он — убежденный эгалитарист. Он не объясняет, почему избавление от страданий должно оставаться лишь моральным благом. Как и всегда, философ Фридрих Ницше был куда прозорливее остальных в понимании последствий современной науки и отказа от концепции человеческого достоинства. Он ясно видел, что, с одной стороны, раз четкая красная черта вокруг всего человечества более не существует, то проложен путь к намного более иерархическому порядку общества. Если есть непрерывная градация между людьми и нелюдьми, то существует и континуум человеческих типов. Это неизбежно означает освобождение сильных от цепей, которые накладывают на них вера в Бога или в Природу. С другой стороны, это приводит все остальное человечество к требованию здоровья и безопасности как единственно возможных благ, поскольку все высшие цели, когда-то для людей поставленные, теперь отвергнуты. Говоря словами героя Ницше Заратустры: “У них есть свое удоволъствьице для дня и свое удовольствьице для ночи; но здоровье — выше всего. “Счастье найдено нами”, — говорят последние люди, и моргают”11. Конечно, одновременное возвращение иерархии и эгалитаристского требования здоровья, безопасности и избавления от страданий могут идти рука об руку, если правители будущего смогут обеспечить массам достаточно “маленьких ядов”, которых массы требуют.
Меня всегда поражало, что через сто лет после смерти Ницше мы куда меньше продвинулись по пути и к сверхчеловеку, и к последнему человеку, чем он предсказывал. Ницше когда-то обозвал Джона Стюарта Милля “тупицей” за мнение, что человек может иметь некоторое подобие христианской морали без веры в христианского Бога. И все же в Европе и в Америке, которые за последние лет пятьдесят стали куда более секуляризованными, мы видим сохранившуюся веру в понятие человеческого достоинства, нынче начисто отрезанное от его религиозных корней. И не только сохранившуюся: мысль о том, что можно исключить какую-либо группу людей на основании расы, пола, инвалидности или практически любого свойства из заколдованного круга личностей, заслуживающих признания человеческого достоинства, — вернейший способ навлечь полное бесчестье на голову любого политика, который ее выскажет. Говоря словами философа Чарльза Тейлора: “Мы убеждены, что в корне неправильно и безосновательно проводить какие-либо более узкие границы, чем границы всей человеческой расы”, и если кто-то попробует их провести, “мы немедленно потребуем ответа, что отличает тех, кто включен в них, от оставленных за бортом”12. Мысль о равенстве человеческого достоинства, оторванная от своих христианских или кантианских корней, сохраняется как религиозная догма у самых заядлых материалистов от естественных наук. Постоянные споры о моральном статусе нерожденных (об этом дальше) составляют единственное исключение из этого общего правила.
Причины устойчивости идеи о равенстве человеческого достоинства достаточно сложны. Частично тут дело в силе привычки и в том, что Макс Вебер назвал “призраками умерших религиозных верований”, которые продолжают нам являться. Частично это продукт исторической случайности: последним существенным политическим течением, открыто отрицавшим предпосылку универсального человеческого достоинства, был нацизм, а страшные последствия расовой и евгенической политики нацизма — прививка, дающая хороший иммунитет еще на пару поколений.
Но еще одна важная причина стойкости этой мысли относится к тому, что можно было бы назвать “природой самой природы”. Многие основания, на которых в истории определенным группам отказывалось в их доле человеческого достоинства, оказались просто предрассудками либо вытекали из культурных и природных условий, которые впоследствии изменились. Представления, что женщины слишком иррациональны или эмоциональны, чтобы принимать участие в политике, или что иммигранты из Южной Европы отличаются меньшими размерами головы и более низким интеллектом, чем выходцы из Северной Европы, были отвергнуты на основании здравого эмпирического знания. Нравственный порядок не рухнул полностью на Западе вслед за разрушением консенсуса относительно традиционных религиозных ценностей, и это не должно нас удивлять, поскольку нравственный порядок возникает из самой природы человека; он не является чем-то, наложенным на человеческую природу культурой13.
Но все это может перемениться под воздействием будущих биотехнологий. Самая явная и непосредственная опасность — это то, что широкое генетическое разнообразие личностей сузится и рассыплется на кластеры по четко определенным социальным группам. Сегодня “генетическая лотерея” гарантирует, что сын или дочь богатых и успешных родителей не обязательно унаследует таланты и способности, создавшие условия для успеха родителей. Конечно, всегда существовала и существует определенная степень генетического отбора: ассортативный выбор партнеров означает, что достигшие успеха люди выбирают в качестве брачных партнеров подобных себе и — в той степени, в которой успех обоснован генетикой — передают своим детям улучшенные шансы в этой жизни. Но в будущем на оптимизацию генов и передачу их отпрыску может быть брошена вся мощь современной технологии. Это значит, что социальные элиты будут сознательно передавать детям не только социальные преимущества, но и врожденные. Когда-нибудь в этот список могут попасть не только ум и красота, но и такие черты характера, как трудолюбие, дух соревнования и так далее.
Многие считают генетическую лотерею внутренне несправедливой, поскольку она обрекает кого-то на более низкий интеллект, или некрасивость, или врожденные дефекты того или иного рода; но в другом смысле она глубоко эгалитарна, поскольку каждый, независимо от общественного положения, расы или этнического происхождения, вынужден в нее играть. У самого выдающегося человека иногда рождается никчемный сын, отсюда и поговорка, что на детях гениев природа отдыхает. Когда лотерея сменится выбором, откроется новое поприще для соревнования людей, такое, которое грозит увеличить разрыв между верхом и низом социальной иерархии.
Над тем, чем грозит возникновение генетического суперкласса идее универсального человеческого достоинства, стоит поразмыслить. Сегодня многие талантливые и успешные молодые люди думают, что обязаны своим успехом случайности рождения и воспитания, без которых жизнь их могла пойти совсем по-другому. То есть они считают, что им повезло, и могут сочувствовать тем, кому повезло меньше. Но в той степени, в которой они могут стать “детьми выбора”, генетически отобранными своими родителями по определенным свойствам, они могут начать все сильнее верить, что их успех дело не слепого счастья, а хорошего выбора и планирования со стороны родителей, то есть нечто заслуженное. Они будут выглядеть, думать, действовать и — быть может — даже чувствовать отлично от тех, кто не был выбран подобным способом, и в свое время могут начать считать себя созданиями иного рода. Короче говоря, они могут ощутить себя аристократами, но в отличие от аристократов прежних времен их претензии будут основаны на природе, а не на условности.
Рассуждения Аристотеля о рабстве в первой книге “Политики” в этом смысле поучительны. Они часто рассматриваются как оправдание рабства в Греции, но на самом деле эти рассуждения куда более тонки и значимы для нашей мысли о генетических классах. Аристотель делает различие между рабством условным и природным14. Он утверждает, что рабство естественно оправдано, если действительно есть люди с естественно рабской природой. Из его рассуждений неясно, верит ли он в существование таких людей: в основном фактическое рабство вызвано условиями — то есть является результатом победы в войне, или силы, или основано на неверном мнении, что варвары как класс должны быть рабами греков15. Благо-роднорожденные считают, что благородство есть природная, а не приобретенная добродетель, и что оно передается по наследству их детям. Но, замечает Аристотель, природа “часто неспособна это осуществить”16. Так почему бы, как предлагает Ли Сильвер, не “захватить эту власть” — давать детям генетические преимущества и не исправлять дефекты естественного равенства?
Вероятность, что биотехнология сделает возможным возникновение новых генетических классов, часто отмечалась и осуждалась теми, кто строил предположения о будущем17. Но вполне вероятной кажется и противоположная возможность: что она станет толчком к более генетически эгалитарному обществу. Дело в том, что крайне маловероятным кажется, будто люди современного демократического общества станут сидеть сложа руки и смотреть, как элиты генетически передают свои преимущества детям.
Разумеется, это одна из немногих вещей в политике будущего, за которые люди, вполне вероятно, будут готовы воевать. Я говорю о войне не в переносном смысле, не в смысле соревнований по крику среди говорящих голов в телевизоре или дебатов в Конгрессе, а в том смысле, что люди действительно схватятся за пистолеты и бомбы и направят их против других людей. Очень мало сегодня есть вещей во внутренней политике наших богатых и довольных собой либеральных демократий, которые могут настолько вывести из себя народ, но угроза возникновения генетического неравенства способна поднять людей с дивана и бросить на улицы.
И если действительно народ так возмутится по поводу генетического неравенства, то могут возникнуть два альтернативных образа действий. Первый и наиболее разумный — просто запретить использование биотехнологий для улучшения свойств человека и тем самым — соревнования в этой области. Но сама перспектива улучшения может оказаться слишком заманчивой, чтобы от нее отказаться, а может выясниться, что трудно будет заставить выполнять закон, ее запрещающий, или суды объявят, что у людей есть на это право. И тут открывается вторая возможность: с помощью той же самой технологии поднять нижний уровень18.
И это — единственный сценарий, при котором есть вероятность увидеть возвращение поддерживаемой государством евгеники в либерально-демократическом обществе. Старые дурные формы евгеники дискриминировали людей с дефектами и низким интеллектом, запрещая им иметь детей. В будущем может представиться возможность выводить детей более разумных, более здоровых, более “нормальных”. Поднять дно — это вещь, которую можно сделать только при вмешательстве государства. Технология генетического усовершенствования будет, вероятно, дорогой и несколько рискованной, но даже если она окажется относительно дешевой и безопасной, люди бедные и недостаточно образованные все равно не смогут воспользоваться ее благами. И чтобы силой восстановить четкую красную черту всеобщего человеческого достоинства, надо будет позволить государству проверять, чтобы никто не остался за ее пределами.
Политика выведения будущих людей окажется весьма сложной. До сих пор левые в массе были противниками клонирования, генной инженерии и прочих биотехнологий подобного рода по разным причинам, в том числе из-за традиционного гуманизма, экологической обеспокоенности, подозрительности по отношению к технологиям и корпорациям, которые их создают, а еще — из страха перед евгеникой. Левые всегда старались принизить важность наследственности в определении человеческой судьбы в пользу воздействия среды. Чтобы люди левых настроений сделали поворот “кругом” и стали поддерживать генную инженерию для обездоленных, они сначала должны признать, что тены играют важную роль в определении интеллекта и других человеческих качеств.
В Европе левые более враждебны к технологиям, чем в Северной Америке. В основном эта враждебность питается более сильными экологическими движениями, которые, например, вели кампанию против генетически модифицированных продуктов. (Перейдут ли определенные формы радикального энвиронментализма во враждебность к биотехнологиям человека, еще предстоит увидеть, Некоторые энвиронменталисты считают, что защищают природу от людей, и их больше волнуют угрозы природе вообще, чем природе человека.) В частности, немцы очень чувствительны ко всему, что носит привкус евгеники. Философ Петер Слотердийк в 1999 году вызвал бурю протеста, когда предположил, что скоро для людей станет невозможно отказаться от мощи выбора, которую открывает для них биотехнология, и что от вопроса выведения чего-то “за пределами” человека, поднятого Ницше и Платоном, уже нельзя будет отмахнуться19. Его осудил, среди прочих, социолог Юрген Хабермас, который в другом контексте выступил и против клонирования человека20.
С другой стороны, есть некоторые левые, вставшие на защиту генной инженерии21. Джон Ролз в “Теории справедливости” утверждает, что неравное распределение природных способностей несправедливо по сути. Так что последователь Ролза должен желать воспользоваться биотехнологией, чтобы уравнять шансы людей, поднимая с помощью генетики нижний уровень общества, если предположить, что такие вопросы, как безопасность, цена и прочее, удастся решить. Роналд Дворкин выступил в пользу права родителей генетически модифицировать своих детей на основе более широкой концепции защиты самостоятельности22, а Лоренс Трайб высказался в том смысле, что запрет на клонирование был бы несправедлив, потому что создал бы дискриминацию против тех детей, которые были клонированы вопреки запрету23.
Невозможно сказать, какой из этих двух радикально отличных сценариев — растущего генетического неравенства или растущего генетического равенства — окажется более вероятным. Но если технологическая возможность биомедицинского усовершенствования будет реализована, то трудно придумать, почему растущее генетическое неравенство не станет одним из главных противоречий в политике двадцать первого века.
Отрицание концепции человеческого достоинства — то есть идеи, что есть в человеческой расе нечто уникальное, дающее каждому представителю этого вида более высокий моральный статус, чем любому предмету остального мира — ведет нас на очень опасный путь. В конце концов мы, быть может, вынуждены будем по нему пойти, но если так, то ступать на него надо с открытыми глазами. И Ницше — куда лучший проводник на этой дороге, чем легионы специалистов по биоэтике и поверхностных университетских дарвинистов, которые сегодня склонны давать нам нравственные советы по данному поводу.
Чтобы избежать следования по этой дороге, нам надо еще раз оглянуться на понятие человеческого достоинства и спросить, есть ли способ защитить эту концепцию от ее хулителей, и такой, чтобы он был совместим с современной наукой и при этом отдавал должное полному значению особости человека. Я думаю, что такой способ есть.
В отличие от многих консервативных протестантских конфессий, которые продолжают держаться креационизма, католическая церковь к концу двадцатого века нашла компромисс с теорией эволюции. В 1996 году в послании Папской академии наук Папа Римский Иоанн Павел Второй поправил энциклику Пия Двенадцатого “Humani generis”, в которой говорилось, что дарвиновская эволюция — серьезная гипотеза, но до сих пор не доказанная. Папа объявил:
Сегодня, почти полвека спустя после публикации энциклики, новое знание привело к пониманию, что теория эволюции — более чем гипотеза. Нельзя не заметить, что эта теория все более принимается исследователями по мере появления новых открытий в различных областях знания. Совпадение результатов работ, не намеренное и не сфабрикованное, само по себе есть серьезный аргумент в пользу этой теории.24
Но Папа еще сказал, что хотя Церковь и может признать ту точку зрения, что человек произошел от животных, имеется “онтологический скачок”, который происходит где-то в этом эволюционном процессе". Душа человека есть нечто, непосредственно созданное Богом, следовательно: “теории эволюции, которые, согласно философским учениям, их вдохновившим, считают, будто разум возникает из сил живой природы или как простой эпифеномен таковых, несовместимы с истиной о человеке”. И еще Папа добавил: “не могут они служить и основой для достоинства личности”.
Иными словами, Папа заявил, что в некоторый момент за 5 миллионов лет между обезьяноподобными предками человека и возникновением современных людей в нас была внесена душа — способом, остающимся до сих пор таинством. Современная наука может открыть временные характеристики этого процесса и указать на его материальные последствия, но она до сих пор не объяснила ни что такое душа, ни как она начала быть. Церковь явно многому научилась у современной науки за последние два века и соответственно изменила свое учение. И хотя многие ученые фыркнули бы при мысли, что они могут чему-то научиться у Церкви, Папа указал на реальную слабость современной теории эволюции, над которой ученым следовало бы задуматься. Современная наука намного меньше сказала пока что о том, что значит быть человеком, чем кажется многим ученым.
Многие современные дарвинисты считают, что они полностью демистифицировали проблему того, как люди стали людьми, путем классических редукционистских методов современной науки. То есть любой вид высшего поведения или свойство, например язык или агрессивность, можно проследить через срабатывание нейронов до биохимических основ работы мозга, которые можно понять через еще более простую химию органических соединений, составляющих мозг. До своего современного состояния мозг дошел путем последовательности возрастающих эволюционных изменений, в их основе — случайные отклонения и процесс естественного отбора, с помощью которого по требованиям окружающей среды отбирались определенные ментальные свойства. Таким образом, каждое свойство человека может быть прослежено до материальной первопричины. Если, например, сегодня мы любим слушать Моцарта или Бетховена, то это потому, что наша звуковая система в процессе эволюционной адаптации к среде стала различать определенные виды звуков, которые предупреждали нас о появлении хищника или помогали на охоте26.
Проблема такого мышления не в том, что оно обязательно ложно, но в том, что оно недостаточно для объяснения наиболее характерных и уникальных для человека свойств. Проблема заключается в самой методологии редукционизма для понимания сложных систем, в частности, биологических.
Конечно, редукционизм составляет одну из основ современной науки, и он породил множество из величайших ее триумфов. Вот перед вами два с виду разных вещества: грифель в вашем карандаше и алмаз в вашем обручальном кольце, и есть искушение поверить, что это действительно разные вещества. Но редукционистекая химия учит нас, что на самом деле оба предмета составлены из одного простого вещества, углерода, и видимые различия связаны лишь с тем, как соединены в них атомы углерода. Редукционистская физика все прошлое столетие занималась тем, что разбирала атомы на субатомные частицы и далее до еще более редуцированного набора основных сил природы.
Но что пригодно в области физики, скажем, в небесной механике и гидродинамике, не обязательно годится для изучения объектов на другом конце шкалы сложности, каковы большинство биологических систем, потому что поведение сложных систем не может быть предсказано путем простого сложения или масштабирования составляющих их частей*.
* Детерминизм классической ньютоновской механики основан в большой мере на правиле параллелограмма, которое гласит, что две силы, действующие на тело, можно сложить, считая, что они действуют независимо друг от друга. Ньютон показал, что это правило действует для небесных тел, скажем, для планет и звезд, и предположил, что оно будет действовать и для других природных объектов, например, животных. — Примеч. автора.
Отличное друг от друга и четко узнаваемое поведение, например, стаи птиц или роя пчел является результатом взаимодействия отдельных птиц или пчел, подчиняющихся относительно простым правилам (лететь за находящимся впереди собратом, обходить препятствия, и так далее), ни одно из которых не включает и не определяет поведения роя или стаи как целого. Групповое поведение “возникает” в результате взаимодействия индивидов, которые его создают. Во многих случаях взаимодействие между частями и целыми нелинейно: то есть увеличение входного сигнала А влечет увеличение выходного сигнала В до определенного момента, после которого оно создает качественно иной и неожиданный выходной сигнал С. Это так даже для достаточно простых веществ, например, для воды: Н20 подвергается фазовому переходу из жидкого состояния в твердое при нуле градусов Цельсия — что не следует с необходимостью из химического состава этого вещества.
Поведение сложного целого не может быть понято как сумма поведений частей, и это уже некоторое время понимается в современной науке27, что привело к появлению так называемых нелинейных или “сложных адаптивных” систем, являющихся попыткой промоделировать возникновение сложности. Этот подход в некотором смысле противоположен редукционизму: он показывает, что целые не могут быть прослежены до более простых предшествующих частей, что не существует простой прогностической модели, которая позволила бы перейти от частей к возникающему поведению целого. Такие системы, будучи нелинейными, могут оказаться крайне чувствительны к малым изменениям начальных условий, а потому могут казаться хаотическими, даже если их поведение полностью детерминистическое.
Это значит, что поведение сложных систем куда более трудно понять, чем думали когда-то основатели редукционистской науки. Астроном девятнадцатого века Лаплас когда-то сказал, что может точно предсказать будущее вселенной по законам ньютоновской механики, если будет знать массы и параметры движения составляющих ее частей28. Сегодня ни один ученый не сделал бы такого заявления — не только из-за внутренних неопределенностей, которые вносят законы квантовой механики, но и потому что нет надежной методологии для предсказания поведения сложной системы29. Говоря словами Артура Пикока: “Концепции и теории... составляющие содержание наук, сосредоточенных на более сложных уровнях, часто (но не всегда) логически не сводимы к используемым в тех науках, которые занимаются компонентами этих систем”30. Есть в науке иерархия уровней сложности, где люди и поведение людей занимают место у самого верхнего уровня.
Каждый уровень может дать нам какие-то догадки о лежащих над ним, но понимание нижних уровней не дает возможности понять возникающие свойства верхних уровней. Исследователи, работающие в области сложных адаптивных систем, создали так называемые модели сложных систем на основе агента и применили их во многих областях — от клеточной биологии и ведения войны до распределения природного газа. Но еще надо будет посмотреть, действительно ли данный подход составляет единую и последовательную методологию, применимую к сложным системам31. Такие модели могут нам рассказать только, что определенные системы остаются внутренне хаотическими и непредсказуемыми или что такое предсказание должно основываться на точном знании начальных условий, для нас не доступном. Высшие уровни должны постигаться методологией, соответствующей их сложности.
Проблематичность отношений частей и целого мы можем проиллюстрировать ссылкой на уникальную область человеческого поведения — политику32. Аристотель утверждает, что человек есть по природе политическое животное. Если надо было бы выступить в защиту человеческого достоинства на основе особости человека, то способность заниматься политикой составляет важный компонент уникальности человека. Но и это доказательство нашей уникальности было поставлено под сомнение. Как отмечается в восьмой главе, шимпанзе и другие приматы занимаются деятельностью, которая невероятно похожа на политику: они борются и вступают в союзы друг с другом для достижения статуса самца альфа. Более того, они, похоже, испытывают политические эмоции гордости и стыда, взаимодействуя с другими членами своей группы. Их политическое поведение также передается негенетическими средствами, так что и политическая культура оказывается не исключительной прерогативой людей33. Некоторые наблюдатели с восторгом приводят примеры вроде этого, чтобы человек не слишком возносился над другими видами животных.
Но путать человеческую политику с социальным поведением любого другого вида — значит принимать часть за целое. Только люди умеют формулировать, обсуждать и изменять абстрактные нормы справедливости. Когда Аристотель заявил, что человек по природе есть политическое животное, он говорил это лишь в том смысле, что политика — это возможность, которая возникает с течением времени34. Он замечает, что политики не было до тех пор, пока первый законодатель не основал государство и не установил всеобщий закон — событие, которое оказалось величайшим благом для человечества, но для исторического развития было случайным. Это согласуется с тем, что мы сегодня знаем о возникновении государства, которое произошло где-нибудь в Египте и Вавилоне около 10 000 лет назад и вероятнее всего было связано с развитием земледелия. До того люди десятками тысяч лет жили в обществе охотников и собирателей, не знающем государства, где в самой большой группе насчитывалось не более 50—100 особей, в основном связанных родством35. Так что, в определенном смысле, хотя социабельность людей явно природна, но то, что человек от природы животное политическое — не так очевидно.
Однако Аристотель настаивает, что политика естественна для человека, вопреки тому факту, что в ранние периоды человеческой истории она не существовала. Он утверждает, что именно человеческий язык позволяет людям формулировать законы и абстрактные принципы справедливости, необходимые для создания государства и политического строя. Этологи замечают, что многие другие виды общаются с помощью звуков и что шимпанзе и другие виды до определенной степени способны усвоить язык людей. Но ни у одного другого вида нет человеческого языка — то есть возможности формулировать и сообщать абстрактные принципы действия. И только когда эти два свойства— социабельность человека и человеческий язык — соединились, возникла человеческая политика. Язык, очевидно, развивался для усиления возможности общения, но весьма маловероятно, чтобы существовали эволюционные силы, выковавшие его намеренно так, чтобы могла возникнуть политика. Скорее язык похож на пазуху свода* Стивена Джея Гульда: он возник по одной причине, но нашел себе совершенно иную главную цель, когда влился в человеческое целое36. Человеческая политика, хотя и естественная в состоянии возникновения, не сводится ни к животной социабельности, ни к животному языку, которые ей предшествуют.
* Пазуха свода — архитектурный элемент, возникающий без намерения архитектора, на пересечении купола и поддерживающих его стен. — Примеч. автора.
Область, в которой наиболее ярко проявляется неспособность современной редукционистской науки объяснить наблюдаемые явления, — это вопрос человеческого сознания. Под сознанием я понимаю субъективные ментальные состояния: не просто мысли и образы, которые появляются у вас, когда вы думаете или читаете эту страницу, но и ощущения, чувства и эмоции, испытываемые вами в повседневной жизни.
За последние лет пятьдесят появилось колоссальное количество работ и теорий о сознании, в равной мере порожденных науками о высшей нервной деятельности и исследованиями компьютерной техники и искусственного интеллекта (AI). В последней области особенно много энтузиастов, убежденных, что с наличием более мощных компьютеров и новых подходов к вычислительным процессам, например теории нейронных сетей, мы вот-вот добьемся прорыва, в результате которого компьютеры обретут сознание. Проводились конференции и серьезные дискуссии по вопросу о том, будет ли моральным выключить такую машину — если и когда произойдет этот прорыв — и надо ли будет давать права обладающим сознанием машинам.
Но на самом деле мы даже близко не подошли к подобному прорыву: сознание упрямо остается той же загадкой, что и было всегда. Проблема современной мысли начинается с традиционной философской проблемы онтологического статуса сознания. Субъективные ментальные состояния, хотя и порожденные материальными биологическими процессами, имеют, очевидно, совсем иной, нематериальный порядок в отличие от других явлений. Страх перед дуализмом — то есть учением о том, что существуют два по сути различных вида бытия, материальное и ментальное — так силен среди ученых в этой области, что приводит их к явно смехотворным выводам. Говоря словами философа Джона Сирла:
Рассматриваемые в ретроспективе последних пятидесяти лет, философия разума, как и наука о познании и некоторые ветви психологии, разыгрывают весьма любопытный спектакль. Наиболее поразительно — насколько многое из того, что лежит в главном русле философии разума последних полувека, кажется очевидно ложным... в философии разума очевидные факты о ментальном, вроде того, что у нас действительно есть субъективные сознательные ментальные состояния, и что их не заменить ничем другим, привычно отрицаются многими, если не большинством, передовых мыслителей, пишущих на эту тему.37
Пример заведомо ложного понимания сознания дает нам один из ведущих экспертов в этой области, Дэниел Деннет, книга которого “Сознание объясненное” приходит в конце концов к следующему определению сознания:
Человеческое сознание само есть огромный комплекс мемов (точнее, действий мемов в мозгу), что лучше всего можно представить себе как работу некоей “фон-неймановской” виртуальной машины, реализованной в параллельной архитектуре мозга, который не был спроектирован в расчете на такую работу.38
Наивному читателю можно простить, если он подумает, что утверждение подобного рода мало продвигает нас вперед в понимании сознания. Деннет на самом деле говорит, что человеческое сознание есть всего лишь побочный продукт работы компьютера определенного типа, и если мы думаем, что это еще не все, то мы придерживаемся ошибочно старомодного взгляда на то, что такое сознание. Как говорит о таком подходе Сирл, он действует, только если отрицать существование того, что мы с вами и каждый прочий понимаем под сознанием (то есть субъективных чувств)39.
Аналогично многие исследователи в области искусственного интеллекта обходят вопрос о сознании путем фактической подмены темы. Они предполагают, что мозг есть просто органический компьютер большой сложности, который можно идентифицировать внешними характеристиками. Известный тест Тьюринга утверждает, что если машина может выполнять познавательные задачи, такие как поддержание беседы так, чтобы внешне это нельзя было отличить от тех же действий, совершаемых человеком, то внутренне она тоже от человека отличаться не будет. Почему это должно быть адекватным тестом ментальности человека — загадка, поскольку машина точно не будет иметь никакого субъективного осознания своих действий, как и связанных с ними чувств*. Это не мешает таким авторам, как Ганс Моравец40 и Рей Курцвайль41, предсказывать, что машины, достигнув должного уровня сложности, получат и такие человеческие свойства, как сознание42. Если они правы, то это будет иметь серьезные последствия для нашей концепции человеческого достоинства, поскольку будет логически доказано, что люди суть не более чем сложные машины, которые можно делать из кремния и транзисторов не хуже, чем из углерода и нейронов.
* Критика этого подхода содержится у Сирла в его загадке “Китайская комната”, где поднимается вопрос, можно ли сказать, что компьютер понимает китайский язык лучше, чем не говорящий по-китайски человек, сидящий в запертой комнате и получающий инструкции, как обрабатывать ряд символов китайского языка. См. Searle (1997), р. 11. — Примеч. автора.
Вероятность, что это случится, кажется весьма далекой, и не столько потому что машины никогда не смогут иметь разум, равный человеческому (я подозреваю, что в этом отношении они подойдут к нему весьма близко), но потому что невозможно вообразить, будто они обретут человеческие эмоции. Это в научной фантастике андроид, робот или компьютер вдруг начинают испытывать страх, надежду и даже половое влечение, но никто еще и близко не подошел к объяснению, как такое может случиться. Проблема здесь не только в том, что никто еще не понял, что представляют собой эмоции (как и сознание) онтологически; никто не понял, почему они начали существовать в биологии человека.
Конечно, есть функциональные причины для существования таких эмоций, как боль и удовольствие. Если бы секс не был нам приятен, мы бы не стали размножаться, а если бы мы не испытывали боль от огня, мы бы то и дело обжигались. Но в современном течении науки о познании считается, что конкретная субъективная форма, принимаемая эмоциями, не является необходимой для их функций. Вполне возможно, например, построить робота, у которого датчики в пальцах будут соединены с актуатором, убирающим руку робота от огня. Робот сможет предотвратить сгорание пальцев без всякого чувства боли и будет способен принимать решения, какие цели преследовать и каких действий избегать, путем математической обработки входных сигналов от разных датчиков. Тест Тьюринга скажет нам, что он по своему поведению — человек, но на самом деле этот робот будет лишен самого важного свойства человека — чувств. Конкретная субъективная форма, которую принимают эмоции, в современной биологии и теории познания рассматривается всего лишь как эпифеномен функций, на которых они основаны: нет никаких объективных причин, чтобы именно такая их форма должна была быть выбрана в процессе эволюционной истории43.
Как указывает Роберт Райт, это ведет к весьма парадоксальному выводу; то, что наиболее важно для нас как для людей, не имеет явной цели в материальной схеме вещей, которые делают нас людьми44. Ибо только человека отличает гамма эмоций, которые порождают цели, назначение, стремления, желания, страхи, отвращения человека, и потому они — источники человеческих ценностей. Хотя многие включили бы разум человека и его способность к нравственному выбору в список наиболее важных отличительных его свойств, я бы возразил, что полная гамма человеческих эмоций важна по крайней мере столь же, если не больше.
Политолог-теоретик Роберт Мак-Ши демонстрирует важность эмоций человека для нашего исходящего из здравого смысла понимания того, что значит быть человеком, предлагая выполнить следующий мысленный эксперимент45. Допустим, что вы на необитаемом острове встречаете два создания, каждое из которых обладает умственными способностями человека и потому способно вести разговор. Первое имеет внешний облик льва, но эмоции человека, второе — внешний вид человека, но эмоциональные характеристики льва. С каким из них вам будет уютнее, с кем из них вы скорее подружитесь или вступите в какие-то моральные взаимоотношения? Ответ, как предполагают бесчисленные детские книжки, симпатизирующие львам, будет лев, поскольку видоспецифичные человеческие эмоции важнее для нашего ощущения человечности, чем разум или внешний вид. Холодно-аналитичный мистер Спок в телевизионном сериале “Звездный путь” иногда кажется приятнее эмоционального мистера Скотта только потому, что мы подозреваем, что глубоко под его рациональной внешностью кроется человеческое чувство. И наверняка много можно найти в этом сериале женских персонажей, надеющихся добиться от него большего, чем реакции робота.
С другой стороны, мистера Спока, лишенного на самом деле любых эмоций, мы бы сочли психопатом или чудовищем. Если бы он сулил нам выгоду, мы могли бы принять ее, но не испытывали бы благодарности, поскольку знали бы, что это с его стороны результат рационального расчета, а не добрая воля. Если бы мы его объегорили, то не чувствовали бы вины, поскольку знаем, что он не способен испытывать чувства гнева или обиды за предательство. И если бы обстоятельства заставили нас убить его ради собственного спасения или пожертвовать его жизнью, будь он заложником, мы бы жалели не более чем при потере любого ценного имущества, автомобиля или телепортатора46. Даже если бы мы захотели сотрудничать с этим мистером Споком, мы бы не считали его существом, действующим под влиянием морали, и не думали бы, что ему полагается такое же уважение, как людям. Компьютерные фанаты в лабораториях AI, которые считают сами себя всего лишь более сложными компьютерными программами и хотят загрузить себя в компьютер, должны поостеречься, ибо всем будет безразлично, если их потом выключат навеки.
Так что есть много такого, что проходит совместно под рубрикой сознания и что помогает определить специфичность, а потому и достоинство человека, но что тем не менее не может в данный момент быть полностью истолковано наукой. Недостаточно сказать, что у каких-то животных есть сознание, или культура, или язык, поскольку их сознание не сочетает человеческий разум, человеческий язык, человеческий нравственный выбор и человеческие эмоции таким образом, что они способны порождать человеческую политику, человеческое искусство или человеческую религию. Все предтечи человека в этих человеческих свойствах, существовавшие в процессе эволюции, и все материальные причины и условия их возникновения вместе составляют существенно меньше, чем человек в целом. Джеред Дайамонд в книге “Третий шимпанзе” замечает тот факт, что геномы человека и шимпанзе перекрываются более чем на 98%, а это подразумевает, что разница между этими двумя видами относительно несущественна47. Но для возникающей сложной системы малое различие может повести к огромным качественным изменениям. Это как сказать, что нет существенной разницы между льдом и водой, поскольку они различаются только температурой в один градус.
Так что не обязательно соглашаться с Папой насчет того, что именно Бог вложил в человека душу в процессе эволюционной истории, чтобы признать вместе с ним, что в какой-то момент этого процесса произошел очень важный качественный, если не онтологический скачок. Этот скачок — переход от частей к целому, которое в конечном счете должно составить основу человеческого достоинства, — концепции, в которую можно поверить, даже если не исходить из общих с Папой религиозных предпосылок.
Что такое это целое и как оно появилось, остается, по словам Сирла, “таинственным”. Ни одна из ветвей современной науки, обращавшихся к этому вопросу, не копнула глубже самой поверхности, вопреки вере многих ученых, что они сняли мистический покров с процесса в целом. Для многих специалистов по AI общим является мнение, что сознание есть “возникающее свойство” определенного вида сложных компьютеров. Но это не более чем недоказанная гипотеза, основанная на аналогии с другими сложными системами. Никто никогда еще не видел возникновения сознания в эксперименте и даже не предложил теории, как это может произойти. Было бы удивительно, если бы процесс “возникновения” не играл важной роли в объяснении того, как люди стали людьми, но только ли в нем дело — мы сейчас не знаем.
Все это не значит, что демистификация сознания научными средствами никогда не произойдет. Сам Сирл верит, что сознание есть биологическое свойство мозга, весьма похожее на передачу сигнала по нейронам или на выработку нейромедиаторов, и что биология когда-нибудь сможет объяснить, как органическая материя его производит. Он утверждает, что наши теперешние проблемы в понимании сознания не требуют от нас принятия дуалистической онтологии или отказа от научной схемы материальной причинности. Проблема возникновения сознания не требует обращения к прямому вмешательству Бога.
Но и не исключает его.
Если то, что дает нам достоинство и моральный статус, высший по сравнению с другими животными, связано с фактом, что мы — сложные целые, а не просто сумма частей, то ясно, что нет простого ответа на вопрос, что такое “Фактор икс”. То есть “Фактор икс” не может быть сведен к наличию нравственного выбора, или разума, или языка, или социабельности, или рассудка, или эмоций, или сознания, или любого другого качества, которое выдвигалось как основа человеческого достоинства. Каждый представитель вида “человек разумный” обладает генетически заложенными способностями, позволяющими ему стать цельным человеком, способностями, которые по сути отличают человека от других созданий.
Минутное размышление показывает, что нет таких ключевых свойств, образующих человеческое достоинство, которые могут существовать отдельно от других. Например, рассудок человека отличается от рассудка компьютера; он пропитан эмоциями, и фактически именно они делают возможным его функционирование43. Нравственный выбор не существует в отсутствии разума, тут и говорить не о чем, но он также основан на таких чувствах, как гордость, гнев, стыд и сочувствие49. Человеческое сознание — не просто индивидуальные предпочтения и утилитарный рассудок, но оно формируется интерсубъектно другими сознаниями и их нравственными оценками. Мы — животные общественные и политические не просто потому, что способны на теоретико-игровое мышление, но потому, что мы наделены определенными общественными эмоциями. Разум человека не таков, как у свиньи или лошади, потому что он сочетается с человеческой памятью и рассудком.
Затянувшаяся дискуссия о человеческом достоинстве ведется для ответа на следующий вопрос: что именно мы хотим защитить от любого грядущего прогресса в биотехнологиях? Ответ тот, что мы хотим защитить весь набор наших сложных, развитых натур от попыток самомодификации. Мы не желаем нарушать единство или преемственность природы человека, и тем самым — прав человека, на ней основанных.
Если “Фактор икс” связан с самой нашей сложностью и со сложным взаимодействием таких чисто человеческих свойств, как нравственный выбор, рассудок и широкая гамма эмоций, то разумно спросить, как и почему биотехнология уменьшит нашу сложность. Ответ заключается в тенденции сводить цели биомедицины к чисто утилитарным — то есть сужать сложное разнообразие целей и задач природы до нескольких простых категорий, таких как боль и удовольствие, или самостоятельность. В особенности следует выделить предрасположение автоматически ставить облегчение боли и страданий выше любых других задач и целей человека. Дело в том, что здесь будет идти постоянный торг, предлагаемый биотехнологией: можем вылечить вот эту болезнь или продлить жизнь этого человека за счет некоторых неописуемых точно человеческих качеств — гений, или честолюбие, или само разнообразие натуры.
То, что этот аспект наших сложных натур окажется под наибольшей угрозой, связано с нашей гаммой эмоций. Нас постоянно будет преследовать искушение считать, что мы понимаем, какие эмоции “хороши”, а какие “плохи”, и мы можем улучшить природу, подавляя последние, стараясь сделать людей менее агрессивными, более общительными, более сговорчивыми, менее угнетенными. Утилитарная цель минимизации страданий сама по себе весьма проблематична. Никто не станет защищать боль и страдания, но дело в том, что все, что мы считаем высшими и наиболее достойными восхищения качествами в себе и в других, часто связано с нашей реакцией на боль, страдания и смерть, преодолением их, противостоянием, а зачастую — и покорностью им, Если не будет этого зла, не будет и сочувствия*, сострадания, храбрости, героизма, солидарности и силы характера.
* Греческий корень “sympathy” (сочувствие) и латинский корень “compassion” (сострадание) — оба связаны со способностью чувствовать боль и страдание другого. — Примеч. автора.
Человеку, который не сталкивался со страданием или смертью, не хватает глубины. Наша способность испытывать эти эмоции — вот что дает нам потенциальную связь со всеми другими людьми, живущими и умершими.
Многие ученые и исследователи сказали бы, что нечего бескокоиться о защите природы человека — как бы ее ни определять — от биотехнологии, потому что мы еще очень нескоро сможем ее модифицировать, если вообще когда-нибудь сможем. Быть может, они и правы: до инженерии зародышевых путей человека и использования технологии рекомбинантных ДНК на людях может оказаться куда дальше, чем полагают многие, хотя в отношении клонирования людей это не так.
Однако наша способность управлять поведением человека не зависит от развития генной инженерии. Практически все предсказываемые возможности, связанные с развитием генной инженерии, мы куда вероятнее и куда быстрее сможем осуществить посредством нейрофармакологии. И нам предстоят большие демографические сдвиги популяций, которым станут доступны новые биомедицинские технологии, изменения не только в распределении полов и возрастов, но и в качестве жизни существенных групп населения.
Распространяющееся и усиливающееся использование таких препаратов, как риталин и прозак, показывает, насколько охотно мы готовы применять технологии для изменения самих себя. Если одна из ключевых составляющих нашей природы — нечто такое, на чем мы основываем понятие достоинства — связана с гаммой нормальных эмоций, общих для всех людей, то мы уже пытаемся сузить их диапазон ради утилитарных целей: здоровье и удобство.
Психотропные средства не меняют клеток зародышевых путей и не дают наследуемых эффектов, что может когда-нибудь сделать генная инженерия. Но они уже поднимают важные вопросы о значении человеческого достоинства и являются предвестниками будущих проблем.
В ближайшее время большие этические противоречия, вызванные появлением биотехнологий, будут угрожать достоинству не нормальных взрослых людей, а лишь тем, кто не обладает полным набором способностей, определяемым нами как характеристический для человека. Самая большая группа этой категории — нерожденные младенцы, но сюда входят также маленькие дети, смертельно больные люди, немощные старики и инвалиды.
Вопрос этот уже возник в связи с исследованиями по стволовым клеткам и клонированию. Исследовательские работы по эмбриональным стволовым клеткам требуют намеренного разрушения эмбрионов, а так называемое терапевтическое клонирование требует не разрушения их, но намеренного создания для научных целей перед разрушением. (Как отмечает специалист по биоэтике Леон Касс, терапевтическое клонирование для эмбриона — отнюдь не терапевтическое.) Оба этих вида деятельности решительно осуждаются теми, кто верит, что жизнь возникает с зачатием, и эмбрион имеет полный моральный статус человека,
Мне не хочется повторять всю историю спора об абортах и затрагивать горячий вопрос о том, когда начинается жизнь. Я лично приступаю к этому вопросу не с религиозной точки зрения и признаю, что возникает заметная путаница, если попытаться продумать его с точки зрения “правильного” и “неправильного”. Здесь вопрос таков: что дает подход с точки зрения естественных прав, очерченный выше, к вопросу о моральном статусе нерожденных, инвалидов и так далее? Я не уверен, что этот подход дает определенный ответ, но по крайней мере он может нам помочь определить рамки ответа.
С первого взгляда учение о естественных правах, основывающее достоинство человека на том факте, что люди как вид обладают некоторыми неповторимыми свойствами, должен помочь нам построить градацию прав — в зависимости оттого, насколько каждый отдельный представитель вида этими свойствами обладает. Например, старик с болезнью Альцгеймера теряет способность рассуждать, свойственную нормальному взрослому, а потому— и ту часть своего достоинства, которая позволяла ему участвовать в политике путем голосования или конкуренции за выборную должность. Разум, нравственный выбор и обладание свойственными виду эмоциями являются общим практически для всех людей, а потому служат основой для всеобщего равенства, но каждый индивид обладает этими свойствами в большей или меньшей степени: есть люди более разумные и менее, люди более совестливые или более сильными эмоциями. Если дойти до крайности, то можно провести незначительные различия между индивидами на основании того, насколько они обладают этими основными человеческими качествами, и дифференцирован но назначать им права, исходя из этих различий. Такое уже случалось в истории — так называемая естественная аристократия. Иерархическая система, которая из нее следует, — одна из причин, по которой люди подозрительно относятся к самой концепции естественных прав.
Но есть серьезные соображения здравого смысла не строить систему политических прав слишком уж иерархически. Прежде всего не существует консенсуса о точном определении списка существенных свойств человека, которые делают его достойным прав. Что еще важнее, суждение о степени, в которой индивид обладает тем или иным из указанных качеств, очень трудно вынести, и обычно оно попадает под подозрение, поскольку выносящее суждение лицо редко бывает незаинтересованной стороной. Почти все реально существовавшие аристократии были условны, а не естественны, и аристократы назначали себе права, которые заявляли естественными, но основаны были эти права на силе или на соглашении. Поэтому стоит к вопросу о том, кто определяет степень прав, подойти с некоторым либерализмом.
Тем не менее любая современная либеральная демократия фактически дифференцирует права на основании степени, в которой индивиды или категории обладают определенными видоспецифичными свойствами. Например, дети не обладают правами взрослых, поскольку их способности здраво рассуждать и совершать нравственный выбор не до конца развиты; дети не имеют права голоса и не пользуются той свободой личности, которая есть у их родителей: они не решают, где жить, ходить в школу или нет, и так далее. Общество лишает преступников основных прав за нарушение закона, и наиболее сурово в тех случаях, когда преступника считают лишенным основных нравственных чувств человека. В США преступники за определенные виды преступлений могут быть лишены даже права на жизнь. Официально люди с болезнью Альцгеймера не лишаются политических прав, но мы ограничиваем их право на вождение машины и на принятие определенных финансовых решений, а на практике они и политические права обычно не используют.
Тогда, с точки зрения естественных прав, можно было бы возразить, что вполне разумно присвоить нерожденным права, отличные от прав младенцев и детей. Новорожденный младенец может быть не способен к рассуждениям или нравственному выбору, но он уже обладает важными элементами обычной человеческой гаммы эмоций: он может расстраиваться, он привязан к матери, требует внимания и так далее — на что не способен новообразовавшийся эмбрион. Именно нарушение естественной и очень сильной связи между родителем и младенцем и делает инфантицид таким гнусным преступлением почти во всяком обществе. Мы устраиваем похороны умершим детям, но не выкидышам — это тоже свидетельство естественности данного различия. Все это подводит к выводу, что бессмысленно относиться к эмбрионам как к людям, присваивая им те же права, что и детям.
Против этой аргументации мы можем выдвинуть следующие соображения — опять-таки с точки зрения не религии, но естественных прав, Пусть эмбриону не хватает некоторых человеческих свойств, которые есть у младенца, но все же он не просто группа клеток и тканей, поскольку он обладает потенциалом развиться в полноценного человека. В этом отношении он отличается от младенца, которому тоже не хватает многих важнейших свойств взрослого, только по степени реализации своего природного потенциала. Из этого следует, что хотя моральный статус эмбриона ниже, чем у младенца, он выше, чем у произвольной группы клеток или тканей, с которой работают ученые. Поэтому и с нерелигиозной точки зрения резонно задать вопрос, следует ли предоставлять ученым свободу в создании, клониро-вании и уничтожении человеческих эмбрионов.
Онтогенез повторяет филогенез. Мы заявляли, что в эволюционном процессе, который ведет от дочеловеческого предка к человеку, произошел качественный скачок, превративший дочеловеческие предвестники языка, разума и эмоций в человеческое целое, которое не может быть объяснено суммой своих частей, и это остается по сути таинственным процессом. Что-то подобное происходит при развитии каждого эмбриона в младенца, ребенка и взрослого: то, что возникло как сгусток органических молекул, получает сознание, разум, способность к нравственному выбору и субъективные эмоции тоже совершенно таинственным образом.
Собирая все эти факты вместе — что у эмбриона есть моральный статус, промежуточный между младенцем и другими группами клеток и тканей, и что превращение эмбриона в нечто с более высоким статусом есть таинственный процесс, мы приходим к выводу, что если уж мы делаем такие вещи, как взятие стволовых клеток у эмбрионов, то надо поставить множество барьеров и ограничений вокруг подобной деятельности, чтобы не допустить создания прецедента для иного использования эмбрионов, что поставит вопрос еще острее. До каких пределов хотим и позволяем мы выращивать эмбрионов для утилитарных целей? Допустим, что появится новая чудесная технология, требующая клеток не однодневного эмбриона, а месячного — что тогда? Пятимесячный женский эмбрион уже содержит в яичниках все яйцеклетки, которые женщина когда-либо произведет, — что если кто-то захочет их взять? Если слишком привыкнуть к клонированию эмбрионов, будем ли мы знать, где остановиться?
Если вопрос о равенстве в будущем биотехнологическом мире грозит расколоть левых, то правые буквально готовы расколоться по вопросам, связанным с человеческим достоинством. В США правые (представленные Республиканской партией) разделены между экономическими либертарианцами, которым хочется иметь предпринимательство и технологии с исчезающе малой регуляторной функцией государства, и социал-консерваторами, из которых многие религиозны и которым много до чего есть дело, в том числе до абортов и до семьи. Коалиция этих двух групп достаточно сильна, чтобы не распадаться на время выборов, но при этом разногласия относительно будущего замазываются кое-как. Неясно, выдержит ли этот альянс возникновение новых технологий, которые, с одной стороны, обещают огромные выгоды для здоровья и денежные возможности биотехнологической промышленности, но, с другой стороны, требуют нарушения весьма высоко ценимых этических норм.
Таким образом, мы вернулись к вопросу о политике и политической стратегии. Так что если где-то есть жизнеспособная концепция человеческого достоинства, она должна быть защищена не только в философских трактатах, но и в реальном мире политики, и защищена жизнеспособными политическими институтами. К этому вопросу мы и обратимся в последней части нашей книги.